Chapter 1: О чёрных мантиях, белом доме и Сияющей Тропе
Chapter Text
Кардиомонитор издаёт мерные звуки. В последнее время я слышу этот писк чаще, чем человеческие голоса. Мы с Трёхсотым постоянно торчим в больнице. В стерильном воздухе больничной палаты витает странная атмосфера угасания. Звуки аппаратуры — это всё, что остаётся от человеческой жизни в этих стенах, и я устал.
Не в силах почувствовать холод кафельного пола под ногами или запах дезинфекции, витающий повсюду, я отчего-то помню, что так должно быть. Я помню, как пахнет больница, помню, что от холода может быть больно, но больше не ощущаю, как это. Я знаю другую боль.
Чувствую её в них: тех, кто часами ждёт конца операции, тех, кто надеется даже в самых сложных случаях, тех, кто, в истерике крича и рассыпая проклятия пополам с молитвами, рвётся наказать виновных, которых нет. Во мне в такие мгновения разверзается бездна. Я чувствую их отчаяние, окутывающее комнату, густое, тягучее, я слышу заполошный стук их сердец, вижу, как искажаются мокрые лица, как они корчатся, терзаемые болью, такой, какую не унять ни морфием, ни заклинанием.
Я вижу слишком много боли. Это моя работа. Мой мир соткан из эмоций и моральных ориентиров, мой мир — жесток и несправедлив. Почему Он сделал их такими слабыми и несовершенными? Почему создал нас беспомощными созерцателями, способными сопереживать, но ничем не способными помочь?
Бледное лицо умирающего, изборождённое морщинами прожитых лет, — это естественно. Это правильно. Но лицо юное, детское, с чистыми, ещё не успевшими ничего увидеть глазами — плохо. Жестоко. За что?
— Дефибриллятор! — стальной голос хирурга. Сестра оперативно подаёт аппарат, гул которого нарушает мёртвую тишину. Разряд. Тело дёргается в конвульсиях. Монитор остаётся глух.
— Ещё раз! Заряжайте до двухсот! — Хирург вытирает пот со лба тыльной стороной руки, оставляя на маске кровавый отпечаток. Его глаза горят.
— Пора, — слышится сбоку.
Трёхсотый стоит рядом, и я морщусь. Над маленьким телом, безжизненно лежащим на столе под простыней, уже поднимаются сияющие завихрения.
— Они ещё могут её вытащить, — произношу тихо. — Не трожь.
У Трёхсотого такой взгляд, что я едва удерживаюсь от грубости. Мне по должности не положено ругаться.
Второй разряд. Ничего.
— Адреналин! Быстро! — В глазах анестезиолога отражаются лампы. Он торопливо вводит иглу, словно пытаясь проткнуть саму смерть, но золотистое тёплое сияние уже заполняет всю операционную. Трёхсотый шагает вперёд, чтобы встретить испуганную маленькую Маргарет и взять её за бесплотную ручку.
У него такие вещи получаются намного лучше, чем у меня. Я стараюсь ни к кому не прикасаться.
В операционной начинается суета. Ассистенты с испуганными лицами подают инструменты, что-то бормочут под нос. Уже кого-то прокляли, послали к такой-то матери. Но я уже делаю шаг назад.
— Массаж сердца! Интенсивнее! — Хирург склоняется над маленьким пациентом, его движения отчаянные и грубые. Он давит на грудную клетку с такой силой, словно пытается вырвать жизнь из костлявых рук смерти.
— Чёрт! Почему ничего не помогает?! — срывается у одного из ассистентов. Хирург бросает на него гневный взгляд, но ничего не говорит. Слова уже бессильны.
Тысячи мельчайших частиц, сверкающих и лёгких, как разноцветные миниатюрные мотыльки, роятся в воздухе, постепенно приобретая вид человеческой фигуры, и вскоре рядом со столом появляется Маргарет Милтон, девочка, случайно выпавшая из окна, когда опёрлась рукой на москитную сетку.
«Какая глупость, — думаю я с раздражением и отстранённостью. — Напрасная, бесполезная смерть».
Трёхсотый уже стоит рядом, берет девочку в чистом жёлтом платьице за руку, улыбается. Сколько раз я наблюдал это? Напарник встречает души с такой солнечной, радостной улыбкой, словно то, что оборвалась их земная жизнь, — самое прекрасное, что могло с ними случиться. Я, наверное, и человеком-то не слишком умел улыбаться. Не научился и ангелом.
— Не бойся, Маргарет, — тихим ласковым голосом говорит Трёхсотый, и девочка смотрит на него большими красивыми глазами цвета морской волны. Он протягивает ей руку. — Идём. Тебе пора.
— Но… — Она оглядывается.
Они всегда оглядываются. Матерей не пускают к оперблоку, они ждут в коридоре, слишком далеко от своих умирающих детей. Но те постоянно ищут их глазами.
— Мама огорчится.
— Иначе нельзя, — мягко говорит Трёхсотый. — Мы должны идти. Я покажу дорогу.
Девочка, лицо которой мгновенно светлеет, доверчиво берёт его за большую ладонь, и они проходят мимо. Она бросает на меня светлый взгляд, и я понимаю, что душа больше не помнит зла и боли. Это случается так быстро: они почти всегда забывают о горестях земной жизни и смело шагают вперёд.
Что же случилось с нами? Почему мы застряли? За что Он оставил нас на земле?
Маргарет Милтон летела с четвёртого этажа. Её мать была на второй работе, которую нашла ровно за день до этого. Больше дома никого не было, некого было позвать на помощь, когда маленькие пальчики хватались за подоконник и оконную раму из последних сил. Она успела испугаться. Она познала за несколько секунд, пока висела на карнизе, неумолимо сползая и соскальзывая, всю палитру ужаса, такого, какой только может испытать человек перед смертью. А он стоял рядом и смотрел. Трёхсотый, мой напарник, тот, кто встретил меня на Сияющей Тропе, когда я сам её увидел. Пришёл ко мне, взял за руку и сказал: «Теперь мы вместе, дорогой друг». Ангел с сияющими крыльями, он стоял и смотрел, как маленькая девочка падает из окна.
— Я ничего не мог сделать, — говорил он мне потом, смотря своими печальными глазами. — Под окнами не было даже дерева, чтобы напустить ветра и качнуть его ветви, чтобы хоть как-то замедлить падение — только асфальтированный тротуар и припаркованные машины.
Я же возник рядом слишком поздно. Связь со мной у Маргарет была намного слабее, чем с Трёхсотым, и я не смог вовремя распознать опасность.
Раздался ужасающий звук удара человеческого тела об асфальт; на белый воротничок, который ещё с утра с такой любовью разглаживала мама девочки, полилась кровь из носа и ушей. Я смотрел на распростёртое под окнами маленькое тело, и перед моим взором пронеслись видения короткой жизни: впечатления от толстой книжки с картинками и цветастого маминого платья, кудрявая кукла на диване в пышном розовом платье, страх и бесконечное страдание, когда мама с папой так громко ругались на кухне, восторг от поездки в зоопарк — больше всего Маргарет любила жирафов! Видения были настолько тонкими и хаотичными, что я не мог разглядеть некоторые из них, но одно главенствовало: красивое лицо Матери, в обрамлении русых волос, доброе, светлое, любимое абсолютной, священной любовью…
Смотрю на молодого хирурга, тяжело облокотившегося на операционный стол. Они все делают так: каменеют, опускают низко голову, сжимают зубы, зажмуриваются. Им очень больно, и они справляются с болью, как могут. Появившийся рядом со мной Трёхсотый некоторое время внимательно смотрит на врача, потом подходит к нему прямо сквозь стену и мягко касается его плеча рукой.
Лицо мужчины со следами от хирургической маски медленно расслабляется, голова склоняется к руке, которую он не может ни видеть, ни чувствовать.
— Безнадёжный случай, Мишель, — говорит вдруг анестезиолог. Хирург кивает. — Ничего не поделаешь.
Кардиомонитор показывает спокойную, длинную линию оборвавшейся жизни.
«Высота была небольшая. Бывают случаи, что люди выживают, упав и с восьмого этажа!»
Напрасные надежды. Теперь шестилетняя Маргарет ушла дальше, а я снова остался.
Отворачиваюсь и иду по коридору. За стеклянными дверьми, ведущими в хирургическое отделение, находятся палаты интенсивной терапии, а дальше — те, в которых дети готовятся к операциям. Среди медперсонала мелькают чёрные мантии. Здесь можно увидеть ангела чаще, чем в каком-либо другом месте госпиталя. Мы всегда там, где опасность, чтобы душа не потерялась на земле и не стала вечно бродить по ней привидением.
Я останавливаюсь перед толстым стеклом и смотрю сквозь него в палату. На постели тихо спит маленький Тоби. Его привезли два дня назад, и все два дня ребёнок сильно боялся. Трёхсотый касался его несколько раз, и он успокаивался, но стоило лишь убрать ладонь, как мальчик снова начинал давиться рыданиями. Продолжалось это целые сутки. К нему по очереди приходили все медсёстры, санитары и врачи: успокаивали, строго разговаривали, увещевали — ничего не помогало, пока в палате не появился Двести пятьдесят четвёртый. Он ворвался в унылое пространство госпиталя, словно радостный пёс, и принялся наводить бардак. Он почему-то сразу привязался к Тоби и старался его развлечь.
Ангелам не положено вмешиваться в жизнь людей. Мы лишь наблюдаем, менять ничего нельзя. Обладая могущественной магией, никогда не применяем её у всех на виду. Но правила Двести пятьдесят четвёртому были не писаны.
Как только он появился, всё в палате пошло кувырком. Цветастая книжка с картинками, лежавшая на тумбочке, сама собой перевернулась на самую интересную страницу. Удивлённо моргнув, Тоби перестал плакать и внимательно следил, как книжка листается сама собой. Потом произошло нечто совсем невероятное. Воздушный шарик, подаренный медсестрой днём и уныло висевший под потолком, вдруг сорвался с нитки и начал летать по комнате, выделывая головокружительные пируэты. Тоби, забыв о страхе и печали, сел на кровати, залился звонким смехом и следил за шариком глазами. Если бы он мог встать, он бы бросился его ловить.
Я вижу его, ангела, который сидит рядом с Тоби. Сейчас, утомлённый забавами и чудесами, мальчик спит, а ангел — высокий и черноволосый, с пронзительными синими глазами — тихо нашёптывает ему хорошие сны. Он поворачивает голову ко мне и весело подмигивает. Тонкие губы трогает усмешка. Он быстро ловит волну моего мрачного настроения, прищуривается, и лицо его искажается жалостью. Знаю, что он за одну секунду понял, что случилось.
Мы ничего не можем скрыть друг от друга. Ангелы принимают чужие эмоции как свои, с этим лично я мирюсь с трудом.
Смотрю на Двести пятьдесят четвёртого и спящего Тоби некоторое время, потом исчезаю.
Под ногами скруглённая поверхность центрального вала лондонского колеса обозрения. Будь я человеком, конечно, на ней не удержался бы, тем более, ветер такой, что сбивает с ног. Он треплет чёрные одежды, и они полощутся за моей спиной, хлопают.
Стою, словно на ладони великана: на залитых солнцем улицах спешат, суетятся миллионы жизней. Под ногами пёстрая панорама города. Сверкающая лента Темзы как будто вышита серебром на бархате суши. Она переливается, отражая небо, и по ней, словно крошечные бусины, скользят кораблики. Тауэрский мост — готический призрак, поднявший свои крылья, и современные сооружения — сверкающие стрелы, стремящиеся ввысь, все сплошь из стекла и металла.
Переплетения дорог и улиц, крыши домов, шпили соборов, возвышающиеся среди современного города. С вершины Лондонского глаза мир кажется одновременно огромным и удивительно близким. Прямо подо мной — не просто город, а целые эпохи, сплетающиеся в единый, неповторимый узор.
Вестминстерский дворец, хранящий эхо веков, теперь кажется игрушечным замком, из которого, однако, доносится могучий шёпот истории. Биг-Бен, гордый страж времени, мерно отсчитывает секунды. А рядом, в противовес векам, вздымаются в небо стеклянные громады, осколки звёзд. И среди этого царства камня и стекла, как драгоценности рассыпаны парки. Изумрудные, сочные, они дарят городу дыхание жизни. А дальше, выше — только чистое голубое небо и белый круг сияющего солнца.
Я не человек уже довольно давно, но красота города с высоты птичьего полёта завораживает. Мы, ангелы, не помним ничего ни о своей человеческой жизни, ни об обстоятельствах, в которых умерли. Я будто подвешен в пространстве и времени, не знаю, кто я и зачем пришёл сюда. Почему, будучи ангелом, я не могу сохранять людские жизни, а только сопровождать по последней дороге до Золотых Врат? Может, я один такой — мучимый подобными вопросами? Трёхсотый, например, вполне доволен своим ангельским существованием, и уж его-то точно можно назвать примерным служителем небесной канцелярии.
Смотрю в бездонный, опрокинувшийся колодец неба и чувствую злость. Ему, наверное, виднее, почему мы можем ощущать эмоции, Он сотворил землю и небо, всё сущее, столько прекрасного, сложного, непонятного. И нас, хранителей. Только зачем, если мы не можем никого спасти? У нас нет даже имён — только номера. Как будто нас наштамповали на конвейере и повесили каждому на грудь табличку. Он мудр и непогрешим…
Иногда я почти вспоминаю нечто, связанное с моей человеческой жизнью, смутные, расплывчатые образы, но как только пытаюсь их разглядеть, они ускользают. Прежде, чем обрести крылья, мы все были людьми. Только умирающих Он принимает в своё царство, а мы, так же умершие, почему-то обречены слоняться по земле вечность.
— Триста девяносто четвёртый, ты как? Я знаю, тебе было нелегко сегодня.
Трёхсотый. Мой напарник. Судя по его номеру, мы когда-то давно отдали концы почти одновременно. Я работаю с ним с того самого момента, как он встретил меня на Сияющей Тропе, и он вечно рвётся мне посочувствовать.
— Ты всегда борешься до самого конца. — Он останавливается за моим плечом прямо в воздухе. Позади нас медленно вращается исполинское колесо. В прозрачных капсулах к солнцу поднимаются люди и смотрят восторженными глазами на тот самый пейзаж, который разворачивается внизу.
На Трёхсотом, как и на мне, широкая чёрная мантия, застёгнутая у горла на пуговицу и охватывающая всё тело, скрывающая очертания фигуры красивыми складками. Снаружи остаются лишь голова и последние фаланги пальцев. Как и я, Трёхсотый босой, но мантия такая длинная, что этого не видно.
Смотрю в его печальное лицо, вечно усталое и какое-то постоянно умиротворённое. Лицо истинного ангела. Не то что моё: носатое, недовольное и кривящееся.
— Это моя работа — бороться.
Он качает головой:
— Мы — проводники, а не спасители. У каждого свой срок. Мы не вправе вмешиваться. Люди живут столько, сколько им отпущено. Ангелы не могут повлиять на это.
— Ты предлагаешь просто смотреть, как они умирают? — спрашиваю без всякого выражения. Сколько раз мы с ним говорили на эту тему? — Ничего не предпринимать?
— Мы не можем повлиять на их судьбу, — печально говорит Трёхсотый. — У каждого человека свой путь, и он не заканчивается смертью. Ты ведь это знаешь.
— Если есть возможность кого-то спасти, почему бы не сделать этого? В моей власти иногда помочь. Сегодня… я не успел. Почему ты не сделал ничего? У тебя же есть крылья, ты мог бы поймать эту девочку, подхватить её у самой земли! Зачем нам могущество? Мы можем почти всё, но одновременно абсолютно бессильны.
Я сам не сразу понимаю, что кричу.
Его глаза теплеют, и я яростно отворачиваюсь. Чувствую злость напополам с иссушающим бессилием. Трёхсотый жалеет всех кошек и собак на улице, людей, насекомых, деревья и цветы, ангелов. Моя душа никогда не была столь широка. Но он, в отличие от меня, всегда действует по «инструкции».
— Ты не виноват.
— Я знаю! — рявкаю.
Небо над нашими головами чистое и безоблачное. Маленькая Маргарет, которая так любила жирафов, уже никогда его таким не увидит. А я буду видеть ещё долго. Целую вечность.
Он касается моего локтя.
— Друг мой, ты к себе несправедлив. Ты ведь знаешь, что ангелы не могут влиять на течение реки времени и судеб. Ты и так делаешь намного больше, чем я. Возможно, если бы ты хотя бы раз провёл душу по Сияющей Тропе…
— Нет. Это не то, чем я хочу заниматься. Сопровождать души, спрашивать их о том, что они больше всего любили в жизни… У тебя лучше получается.
По Сияющей Тропе я ходил лишь раз, в самом начале. В одиночестве. Сразу после смерти, чтобы вновь попасть в мир живых. Чувство всеобъемлющей и мощной, абсолютной любви, которое сопровождало меня после пересечения Грани, оборвалось сразу же, стоило только оказаться в мире людей. Меня в буквальном смысле скинули с небес на землю, и я малодушно обиделся. Наверное, мои прижизненные грехи были столь высоки, что меня немедленно отправили их искупать, иначе я никак не могу истолковать то, что Золотые Врата так передо мной и не раскрылись.
— У Маргарет был плюшевый Жираф, — негромко говорит Трёхсотый. — Она называла его Плавунчик. Жираф, который любил плавать. Она однажды взяла его с собой в ванную и намочила, а мама потом её отругала. Но тот момент, когда Плавунчик купался в ванной — самый её любимый. Она рассказала мне, пока мы шли.
Прикрываю глаза. Вместо лениво ползущих автомобилей по дорогам Лондона снова вижу распластанное на асфальте тельце в жёлтом платье.
— Тебе совсем не больно? — спрашиваю, проклиная свой язык.
— Ты любишь людей, Триста девяносто четвёртый, а я люблю души, — загадочно отвечает он. Его глаза наполнены сожалением и теплом.
— Я не люблю людей, — огрызаюсь. — Люди — глупцы. Им дан прекрасный мир, а они его разрушают. Их руки, способные творить чудеса, вечно праздно опущены. Им дарован разум, чтобы постигать тайны вселенной, а они тратят его на бессмысленные развлечения, пустые разговоры, погоню за призрачным комфортом. Они строят небоскрёбы, но забывают о тех, кто живёт в их тени. Люди изобретают машины, самолёты, но теряют способность видеть красоту мира. Им дано величайшее чудо — любовь, способность строить семьи, дарить жизнь, поддерживать друг друга в трудные времена. Но вместо этого они тратят отпущенное им время на пустые ссоры, на бессмысленные обиды, на жестокие войны. Я ненавижу людей за это.
— И тем не менее ты им помогаешь, — улыбается Трёхсотый.
— Сохранить человеческую жизнь — главная задача. Я знаю, что ты не согласен.
— Да уж. Только у тебя потрясающая манера эту жизнь сохранять, друг мой. Вчера ты пнул мусорный бак, для того чтобы остановить мальчика на велосипеде.
— Он нёсся как ненормальный на проезжую часть.
— Он перелетел через бак, упал и сломал руку.
— Лучше гипс на три недели, чем Сияющая Тропа, — сказал я, пожав плечами.
— А мужчина, которому ты дал подзатыльник?
— Ты не слышал его мысли. Он думал, как бы извернуться и взять пятый кредит.
— За день до этого ты ошпарил девушку ни за что.
— Дура вела машину и пялилась в телефон, в то время как на неё летел грузовик. Пришлось опрокинуть ей на колени горячий кофе.
Недовольно хмыкаю. Знаю, что ангелу, чтобы наполнить мысли человека благодатью, достаточно прикоснуться к его плечу, но я не люблю касаний. С прикосновением я способен увидеть всю жизнь от момента рождения и до момента смерти, всё, что было и что будет, все вероятные разветвления судьбы. Не хочу этих знаний. Как будто они накладывают на меня ответственность за конкретного человека. После такого я не смогу остаться равнодушным и вынужден буду возвращаться к нему снова и снова.
Трёхсотый не пинает мусорные баки, не роняет на людей горячие напитки, он мягко обнимает их за плечи, что-то ласково шепчет, и они замирают на мгновение, словно прислушиваясь, а потом расслабляются. Лица становятся умиротворёнными на мгновение, а потом на них снова ложится печать земной жизни: несуществующих «ужасных проблем», пустых сожалений и мыслей, мыслей…
Трёхсотый с улыбкой качает головой.
— Ты любишь их. Всех. Что бы ни говорил.
Смотрю на него задумчиво. Может, мы знали друг друга при жизни? Иногда я чувствую что-то такое… знакомое в нём, но не могу вспомнить. Память крепко спит. Трёхсотый такой светлый и добрый, за что его отправили на службу?
Я откуда-то знаю, что мы здесь для чего-то и почему-то. Что-то мы сделали в жизни, или наоборот, не сделали, чтобы оказаться между небом и землёй, застрявшими в бесконечности. У каждого из нас есть цель, только вот в чём она заключается, известно лишь Ему. А Он всегда нем.
Ночь пролетает стремительно. В разговорах и молчании. Трёхсотый удивительный собеседник. Он способен часами поддерживать разговор и оставаться деликатным. А я постоянно огрызаюсь, язвлю и кусаюсь словами, но почему-то на него это не действует. Он просто улыбается в ответ.
Мы говорим о Маргарет, о её матери, которую напарник навестил в больнице. Она сидела два часа в приёмном покое после того, как доктора сообщили ей новость о смерти дочери, и никак не могла встать. А потом просто упала на пол, и теперь она лежит с сердечным приступом в палате той же больницы, где на нижнем этаже находится тело маленькой Маргарет.
Во мне эта история будит нечто дикое, неистовое и безотчётное. Мне хочется орать и беситься от злости, но я молчу. Только стою на центральном валу, смотрю, как проносятся облака над головой, как город постепенно становится тёмным, сияющим, словно россыпь сверкающего жемчуга на чёрной простыне ночи, и как мерцают звёзды в далёком поднебесье.
— Нам пора, — говорит Трёхсотый. Он всю ночь был рядом. Он рядом всегда, когда мне плохо.
Перевожу взгляд на стремительно светлеющую полоску горизонта. Неумолимо поднимается солнце. Морщусь.
— Это обязательно?
— Неужели тебе не хочется услышать Песнь?
— Я слышу её каждый день. Наизусть уже выучил.
— Она же каждый раз разная, — Трёхсотый смеётся. Он никогда не обращает внимания на мою сварливость.
— Да одинаковая она. На кой чёрт куда-то тащиться, чтобы послушать Песнь! Её и тут прекрасно слышно.
— Ты не прав. — Трёхсотый, словно голубь, садится на крошечное пространство металлического цилиндра. Мантия раскидывается вокруг него на ветру складками, словно чёрными ручьями. — Город заглушает звуки небес. Их можно услышать только там, где Его ладонь коснулась земли, и люди не успели…
— Испоганить? — спросил я насмешливо.
— Вмешаться, — уклончиво отозвался напарник. — Переносимся?
Вздыхаю.
Мы переносимся мгновенно.
— Вот мы и в Раю, — говорю я скептически, — в прямом смысле слова.
Деревня «Рай» стоит на побережье Северного моря. Паломничество ангелов именно в этот маленький городок поражает своими масштабами. Мы с Трёхсотым каждое утро переносимся именно сюда. И не мы одни. Почему-то больше всего нас тянет к воде.
Узкая улочка с двухэтажными беленькими домиками спускается вниз с невысокого холма и утыкается в песчаную дюну, поросшую травой и низким кустарником. Летняя ночь стремительно тает над нашими головами, и мы ускоряем шаг. Длинные чёрные мантии не волочатся по траве и не цепляются за колючие кусты, а красиво развеваются за нашими спинами, будто их ласкает ветер. Обычные законы физики на нас не действуют. Ноги должны утопать в холодном песке, но мы, слишком лёгкие, идём по самой поверхности. Один поворот, и из-за лохматой дюны появляется ревущее морское побережье.
Небо — огромный холст, ещё хранящий остатки ночной синевы, усеянный редкими угасающими звёздами, словно блёстками, рассыпанными по бархату. На самом горизонте, где Северное море встречается с небесным сводом, зарождается робкое зарево — предвестник грядущего чуда. Мы останавливаемся подле самой воды. Она лижет наши ноги, но ни я, ни Трёхсотый не можем ощутить эту ласку. Мы на побережье не одни, со всех сторон подходят безмолвные фигуры в чёрных мантиях, становятся рядом, поближе к воде, как будто в надежде почувствовать холодные пенистые волны. Взгляды устремлены вперёд.
Сначала это лишь тонкая полоска нежно-розового цвета, словно акварель, случайно пролитая на тёмный фон. Затем к ней присоединяются персиковые оттенки, переходящие в лимонные и абрикосовые. Краски становятся насыщеннее, смелее, как будто художник, вдохновлённый предчувствием красоты, с каждым мазком вкладывает всё больше страсти.
Над горизонтом появляется первый луч — робкий, золотой, пронзающий мутную утреннюю серость. Он касается поверхности океана, и вода вспыхивает миллионами искр, подобно россыпи бриллиантов, отражающих небесное сияние. И одновременно по воздуху разливается тихая, дивная мелодия.
Я закрываю глаза. Моя душа наполняется благодатью и любовью, а несуществующее тело — теплом, словно сосуд — чистейшей родниковой водой. Я слушаю ласковое пение — непостижимое и ни на что не похожее, прекрасное, терзающее душу в нежной пытке, а тень за нашими спинами неумолимо ползёт по мокрому песку.
Постепенно, медленно, солнце поднимается выше. Его диск, ещё не полностью освободившийся от власти морских вод, кажется огромным огненным шаром. Цвет его меняется от насыщенно-оранжевого до нежно-золотого, и в одно мгновение, краткое и чудесное, всё вокруг заливает тёплый ласкающий свет.
Океан, только что сонный и тёмный, просыпается и оживает. Волны переливаются всеми оттенками золота и меди. Если прислушаться, можно услышать, как они шепчут древние истории, рассказывают о далёких странах и неизведанных глубинах.
Вокруг царит тишина, нарушаемая лишь криками просыпающихся чаек и шумом волн. Мир замирает в предвкушении нового дня. Замираем и мы, очарованные, обездвиженные красотой.
— И стоило тащиться за пятьдесят миль от города сюда, — ворчливо говорю я, как только Песнь заканчивается. — Что будет, если мы пропустим хоть один рассвет?
— Полагаю, ничего, — улыбается Трёхсотый. Мы медленно идём по воде у самого берега. — Рассвет — вечное обновление, напоминающее о бесконечном цикле жизни, смерти и возрождения. И, глядя на это великолепие, чувствуешь себя частью чего-то огромного, прекрасного и непостижимого. Это важно для нас. Мы не должны забывать, кто мы есть, друг мой.
— Забудешь тут, — произношу я тихо.
Мои ноги под длинной мантией не чувствуют нежных касаний воды, хотя мы идём довольно далеко от берега. Сквозь водную толщу я могу рассмотреть песчаное дно, мелкую гальку и шустрых мальков, играющих в салки с солнечными бликами. Я помню, что вода должна быть прохладной и приятной, но совсем не могу себе представить это ощущение. Как это: нежная пена касается кожи, робкая волна ласкает пальцы ног и щиколотки, а ступни ощущают плотный песок и постепенно, приятно утопают…
Ничего. Мы способны почувствовать что-то только через человека, или друг через друга, как будто наши души полностью заснули.
Скольжу взглядом по аквамариновым волнам, розоватому в свете встающего солнца песку и утыкаюсь в небольшой особняк на самом краю песчаной дюны.
Дом, сложенный из светлого, чуть потемневшего от времени камня, кажется частью самого пейзажа. Он словно вырос из морской пены: так близко находится к воде. Скаты бледно-красной черепичной крыши почти касаются земли по бокам, а потом я различаю несколько пристроек, будто сначала дом был совсем маленький, а потом его постепенно достраивали и расширяли.
Высокие окна, обрамлённые резными наличниками, смотрят на восток, жадно впитывая первые лучи дня. В стёклах отражается небесное сияние, лёгкая дымка тумана, стелющаяся над морем, окутывает особняк пеленой. Вдоль фасада дома тянется увитая плющом веранда с двумя плетёными креслами и качелями. Прямо возле крыльца рассыпаны игрушки, а всего в двухстах ярдах на берег накатывают шумные волны. Прислонённый к стене, стоит навороченный мотоцикл, а рядом — розовая игрушечная коляска с забытой куклой внутри.
Мы медленно подходим к дому и останавливаемся напротив, со стороны моря. Я вдруг думаю, что этот дом словно сошёл со страниц старинной сказки, где время замерло, а каждое утро начинается с чуда. Невольно засматриваюсь на то, как солнце покрывает нежно-персиковым цветом белые стены, обливает золотом крышу и стучится в окна, как ветер колышет зелень плюща, кружевом оплетающего веранду, как тихо раскачиваются качели.
— Понравилось место?
— Хороший дом. Здесь, должно быть, спокойно, — говорю я с полуулыбкой. — Мы не доходили сюда раньше.
Трёхсотый согласно кивает.
— Да, переносились южнее. Особняк спрятан между двумя дюнами, его не сразу заметишь.
— Дом жилой?
— Раньше здесь жила супружеская пара. Потом дети выросли, нагрянула старость, и они переехали поближе к городу. Дом сдаётся. Тут постоянно новые жильцы.
— А сейчас тут кто-то живёт?
Но я уже и сам вижу, как входная дверь открывается, и на веранду выходит молодой черноволосый мужчина в светлой хлопковой пижаме. Он облокачивается на перила и смотрит прямо на то место, где стоим мы. На мгновение мне даже кажется, что он видит меня, но взгляд его скользит по сверкающей поверхности моря, к высокому синему небу и дальше, к сияющему солнцу.
Оборачиваюсь и замираю на секунду. Серебристая высвеченная дорожка, расходящаяся от солнечного диска по беспокойной водной глади, напоминает Сияющую Тропу, и внезапно меня охватывает странное чувство. Как будто я именно там, где должен быть. Будто я долго скитался по миру и наконец пришёл домой.
Я подхожу ближе, беззвучно и незримо ступая по мокрому песку, не оставляя следов, не чувствуя порывов ветра на своём лице. Трёхсотый за мной не следует, продолжает стоять в море. Он понимает.
Иногда такое случается. Ангел подолгу остаётся с какими-то людьми, потому что чувствует: должен быть рядом. Обычно это связано с надвигающейся опасностью. Вспоминаю красные пятна на белом воротничке и ещё живое тельце, распростёртое на огненном от полуденного солнца тротуаре. Смотрю на белый уютный дом и вдруг неожиданно для себя решаю задержаться.
Подхожу к мужчине ближе.
Некоторых людей хочется рассмотреть внимательно. Остановить на них взгляд, как на старинной картине, которую нужно разгадывать снова и снова, открывая в ней новые и неожиданные смыслы.
Такие люди настолько наполнены жизнью и красотой — не внешней, внутренней, незаметной — что незримо сияют. И почему-то некоторые из них притягивают внимание ангелов.
Но иногда случается иначе…
Нас могут увидеть маленькие дети. Они часто тянут к нам свои миниатюрные ладошки, и Трёхсотый всякий раз пожимает их с улыбкой. Но чем старше становится человек, тем меньше он видит. К пяти годам дети полностью теряют способность видеть ангелов, некоторые могут чувствовать наше присутствие, но чаще всего это их пугает, и мы стараемся полностью отстраниться от людей.
Мужчина, стоящий на веранде, невысок, но строен и красив. Его красота неброская, спокойная: не яркое пламя, а светлячок, мерцающий во тьме. Волосы цвета воронова крыла непокорно спадают на лоб. Зелёные глаза, ровный загар на лице и руках. Щёки с лёгкой щетиной, тронутые сонным румянцем, губы бледные, красиво очерченные.
Худые, жилистые руки расслабленно сложены на перилах. Его пальцы испачканы чем-то тёмным. «Чернила», — догадываюсь я. На некоторых из них — тонкие порезы от бумаги. Он медленно крутит в руках длинную деревянную палочку.
«Волшебник».
Ветер треплет на нём пижаму, отбрасывает со лба чёрные, чуть вьющиеся пряди, и я вижу бледный шрам в виде молнии на правой стороне лба. Взгляд красивых глаз цвета молодой листвы устремлён вдаль. В нём плещется отражение лилового неба, чистого и безмятежного сияющего моря, но в глубине таится тень. Он стоит, слегка сутулясь, однако в теле чувствуется сдержанная сила, а в лице читается смазанная, полуживая печаль.
Я мгновенно понимаю, что он несчастлив. Несчастлив настолько, что исцеляющий морской воздух и пейзаж приносят ему только болезненные ощущения. Он смотрит в стремительно набирающее обороты утро так, будто спрашивает о чём-то важном, но не осмеливается произнести вслух. Я вижу, как трепещут его короткие, выгоревшие на солнце ресницы, как кончики волос щекочут скулы, и он одним быстрым жестом отводит их назад, зачёсывая пальцами, как гребнем.
Вдруг он набирает полную грудь воздуха, рвано выдыхает и поворачивает голову.
Меня пригвождает к земле его взглядом — прямым и чистым. Он смотрит сквозь меня, но ровно в то место, где я нахожусь, и говорит мелодичным голосом:
— Вот и новый день. Ты видишь, Северус?
Chapter 2: О разбитых чашках, бродячих собаках и рисунках на песке
Chapter Text
— Ал, где моя любимая чашка?
Я кошусь на мусорное ведро, где лежат разноцветные черепки. Чашку с самого утра младший мальчик разбил, торопливо собрал осколки и ссыпал в мусорку, прикрыв упаковкой из-под картофельных чипсов. Старший ребёнок — мальчик лет четырнадцати, чрезвычайно похожий на отца, с такими же чёрными растрёпанными волосами, правильными чертами лица, красивый и ладный, — входит в кухню. На нём синяя пижама, хотя утро закончилось уже давно. Мальчишка валялся в кровати с планшетом пять часов.
— Почём я знаю, — лениво отзывается младший. Он более худой, даже костлявый. В нём нет ни красоты, ни гибкости, он, словно детёныш лебедя — нескладный и несуразный подросток. Волосы у него светлее, чем у брата, и длиннее. Кончики почти касаются скул. А глаза у них одинаковые, карие — наверное, от матери.
— Вчера я оставил её на столе.
— Грязную.
— И что?
— А то, что папа ненавидит, когда повсюду стоят грязные кружки. И ты именно поэтому их везде расставляешь, да, Джеймс?
Я провёл с этой семьёй всё утро. Отец, растолкав сыновей и по-быстрому наколдовав завтрак, уехал в девять. Я с любопытством смотрел, как он вертится на кухне, помахивая волшебной палочкой, и следит, как одновременно жарится яичница, нарезается салат, моются овощи и фрукты. Как коробки с сухими завтраками и молоком вылетают из кухонных шкафчиков. Всё кружило вокруг него, и он так ловко со всем обходился, что я невольно засмотрелся. Пока готовился завтрак, он проговорил несколько магических скороговорок, и исчезла пыль со всех видимых горизонтальных поверхностей, в шкафах на вешалках выровнялась одежда, ковровая дорожка в коридоре очистилась от песка, а тарелки в шкафчиках перетасовались, как карты в колоде, и встали одна к одной по размеру.
— Джеймс! Ал! Я ушёл. Вернусь к обеду. Завтрак на плите, — крикнул он и хлопнул входной дверью.
Трёхсотый оставил меня сразу после восхода солнца. Он лишь улыбнулся и растворился в голубизне моря и неба. Мне лишь хотелось понаблюдать за этой семьёй, но напарник загадочно проговорил:
— Желания ангелов не возникают на пустом месте. — И исчез.
Братья совершенно не похожи друг на друга. Внешне в старшем — Джеймсе — угадывались черты лица отца. Он был его юной копией: мимика, слова, жесты, привычка лохматить волосы, запуская в них руку. Младший же, вероятно, больше пошёл в мать, которую я так и не видел. Ал всего на два года младше брата, но лицо его нежно, глаза большие, с длинными ресницами. Он любит прятать взгляд за своими длинными волосами, низко опускает голову, так, что они падают ему на глаза, и смотрит сквозь тёмные пряди.
В доме много маленьких комнат. На первом этаже — кухня, оснащённая всем, что только можно пожелать для комфортного проживания, крошечная столовая, в которой помещается лишь большой дубовый стол и шесть стульев. Одна из трёх комнат на втором этаже — с электрогитарой, книгами по зельям и заклинаниям, сваленными в кучу на подоконнике, и аквариумом с живым тарантулом — принадлежит Джеймсу. Другая — вся в плюшевых зверях, куклах с переливающимися крылышками и витающими в воздухе разноцветными заколдованными шариками — пустует. Тут явно обитает девочка, которую я ещё не видел. Комната Ала — самая маленькая, но необычная. Должно быть, это раньше была открытая веранда, которую потом застроили и застеклили. Комната «выпирает» из стены дома и образовывает «фонарик». Стены сплошь заклеены рисунками. Из разноцветных вод выпрыгивают многохвостые рыбы, в пышных садах цветут огромные розы и фиалки. Радужные птицы вспархивают в фиолетовые небеса. Я рассматриваю рисунки целый час, и всё больше проникаюсь теплом к тихому, скромному автору. Кого-то этот робкий мальчик мне напоминает, кого-то из человеческой жизни, но я не могу вспомнить.
Детей я чувствую иначе, чем взрослых. Прикоснуться к их душе — как войти в чистую воду: сразу выводятся грязные пятна. Не знаю, кем я был при жизни. Думаю, кем-то не слишком приятным, если учесть мой довольно скептический взгляд на вещи, но дети всех делают лучше. Чистые души, незамутнённые, не зашоренные. Они воспринимают мир в его первозданности, чувствуют течения магии в нём, хотя маглы почти перекрыли эти потоки своим техническим прогрессом. До трёх лет дети видят ангелов, мы им кажемся просто людьми в странных чёрных одеждах, дальше уже индивидуально. Самому старшему ребёнку, который меня увидел, было восемь, но это был весьма сильный волшебник.
Люди, обладающие магией, почти не отличаются от маглов. В некотором смысле они ещё более замкнутые ментально. Могущество в пальцах даёт им свободу и независимость от материальных вещей, но забирает широту восприятия. Среди волшебников намного меньше созидателей. Маглы чувствуют, что есть в мире нечто… и бесконечно тянутся к нему. Пишут книги, картины, создают музыкальные произведения, обрабатывают мрамор и гипс. Волшебники способны сделать это одним взмахом палочки, им не интересно. Они не созидатели, а свои возможности тратят так же бессмысленно, как люди — время отпущенное им.
Джеймс берёт со стола сэндвич и забрасывает в рот, а потом улыбается. Выглядит это ужасно. Ал смотрит на него с укором, но не возражает: брат взял бутерброд с его тарелки.
— Папа оставил завтрак. Садись. — Младший снимает с плиты сковороду с яичницей, вынимает из холодильника салат, ставит всё это на стол перед Джеймсом. Тот одним глотком выпивает остатки какао из чашки Ала.
— Джей, это уже свинство.
— Да ладно, ты ведь не против? Там целый кувшин. Налей себе.
— Почему бы тебе не налить… — бурчит младший, но так тихо, что его слова слышны лишь мне.
Джеймс садится на стул по-турецки и с удовольствием жуёт сэндвич, игнорируя яичницу и брата, который наливает ему ещё какао в белую чашку.
— Куда делся старик?
— Уехал по работе, он говорил с утра. — Ал подкидывает ещё несколько сэндвичей на тарелку брата и садится на место. На его тарелке уже ничего нет. Он вздыхает и тянется к сковороде. — Ему нужно что-то уладить в городе.
— Шикарно! — выплёвывает Джеймс. — Привезти нас в эту дыру, где даже интернет ловит с трудом, и бросить нахрен.
Выгибаю бровь. Мальчишку ещё воспитывать и воспитывать. Хотя… уже поздно.
— Он поехал за Лил. Она гостила неделю у бабушки в Норе, — мягко возражает Ал. — Сказал, что будет к часу.
— Ага, он много чего говорит. Уже половина третьего.
Джеймс презрительно хмыкает и стаскивает с тарелки брата кусок яичницы. Ал делает вид, что не заметил.
— А мне тут нравится, — говорит он, — красиво и спокойно. Можно купаться в море или валяться на пляже, или…
— Ну да, тебе-то всё равно, где проводить лето. У тебя нет друзей. — Джеймс ловко перехватывает из сковороды последний кусок бекона и проворно суёт себе в рот.
— Ты меня нарочно дразнишь. — Ал беззлобно улыбается и тут же получает от брата шутливый подзатыльник.
— Там ещё фруктовый салат есть. Ненавижу его, а ты слопаешь за милую душу.
Джеймс вскакивает со стула. Такое ощущение, что делать что-то спокойно у него не получается: он весь порывистый, энергичный, резкий. От души хлопает брата по спине и уносится на второй этаж. Я смотрю, как он перепрыгивает сразу через две ступеньки — легко, словно лесной эльф.
— Вообще-то я тоже хотел бекон, — произносит Ал, ни к кому не обращаясь.
Младшенький вздыхает, убирает со стола, строит башню из грязной посуды и осторожно несёт её к раковине. Поравнявшись с креслом, где я сижу с самого утра, наблюдая за ними, он внезапно останавливается и смотрит прямо на меня. Я мгновенно понимаю, что он не видит, но чувствует моё присутствие. Ал делает опасливый шаг в сторону кресла, ставит на пол тарелочно-чашечную башню и приближается. Я спокойно смотрю, как он поднимает руку и протягивает её к моему лицу.
— Странно, — бормочет мальчик, — как будто воздух дрожит. Как на жарком солнце. И странное сияние…
Если я захочу, могу показаться любому человеку, стать видимым. Как-то уже использовал эту возможность, чтобы задерживать людей разговорами или окриками. В последний раз наорал на здорового мужика, который чуть не вышел на проезжую часть, засмотревшись в мобильник, и кинул ему под ноги кирпич. Он долго потом отплёвывался от лужи, в которую упал, и искал «этого носатого козла, разбрасывающегося камнями». Но сейчас я показываться не стану. Мальчик может серьёзно испугаться.
— Профессор Флитвик говорил, что так бывает при скоплении большого количества магии, — продолжает говорить Ал, и я понимаю, что он одинок. Дети, привыкшие рассуждать вслух, редко бывают счастливы. — Или аномалия. Но откуда здесь? Это же магловская деревня… Источник? Нет. Мы третий год в этом доме, раньше такого не было.
Резкий звук клаксона раздаётся под самым окном, и мы одновременно подпрыгиваем. Ал делает шаг назад и сбивает башню из посуды. Вовсе не Вавилонская, она валится на бок с оглушительным грохотом.
— Репаро, — говорит отец семейства с порога и взмахивает палочкой. — Что тут стряслось?
— Э-э-э, ничего, я просто уронил посуду. — Ал улыбается. — Привет, пап. Как съездил? В редакции всё в порядке?
— Привет, младшенький.
Я смотрю, как отец и сын обмениваются рукопожатиями, а потом шутливо стукаются кулаками.
— Джеймс встал?
Восстановленная заклинанием посуда поднимается в воздух и левитирует к раковине, где аккуратно складывается в мыльную воду и начинает мыться.
— А, ну да, я вижу, что встал. — Он обводит глазами бардак, который успел навести своим коротким присутствием старший ребёнок, и хмурится.
Ал торопливо говорит:
— Я всё уберу, пап.
Зелёные глаза мужчины смотрят на сына с теплом, и лицо его светлеет. Он ласково ерошит длинные каштановые волосы Ала. Вдруг в дом врывается маленький рыжий смерч и, визжа что-то неразборчивое, хватает отца за руку.
— Папулечка, там собачка! Она, наверное заблудилась в дюнах! Папулечка, милый, хороший, давай её оставим!
Девочка врывается так внезапно, что я вздрагиваю. На ней синее платье с большими воланами. У неё тонкие ручки и ножки, невероятно длинные медные волосы, она нежная и беленькая, как цветок лилии. Я смотрю на неё, а она вдруг замирает и поворачивает очаровательную головку.
Её глаза, словно бескрайние весенние поля, — зелёные, чистые, наполненные теплом, напоенные солнцем. «Такие же, как у отца», — проносится в разуме. Девочка смотрит на меня неотрывно, чуть приоткрыв розовые губки, и становится ясно: она меня видит. Я спокойно улыбаюсь. Секунда проходит в молчании, а потом девочка расцветает в ответ такой очаровательной улыбкой, словно само солнце стоит за её плечами.
— Лили? — спрашивает отец и с недоумением оборачивается к креслу, которое, конечно, для него пустое. — Что такое? Почему ты так улыбаешься?
Я прикладываю палец ко рту и заговорщицки подмигиваю.
Девочка подпрыгивает на месте.
— Ой! Собачка! Скорее, папуля, нужно дать ей воды. Она заблудилась. Идём, идём. Алли!
С недюжинной силой Лили хватает отца и брата за руки и тащит к выходу.
— Я сто раз просил не называть меня Алли, — тихо проговаривает Ал.
Я останавливаюсь в дверях и вижу картину, от которой мне снова хочется улыбнуться. Ал и Лили гладят взъерошенную, плешивую дворнягу, которая от такого счастья обомлела настолько, что плюхнулась на спину, раскинула пыльные лапы в стороны, вывалила язык на сторону и теперь довольно каталась по песку. Отец сидит рядом на корточках и водит над собачьим телом палочкой.
— Ну что ж, он здоров. Не считая нескольких синяков и ушибов. Вполне…
— Синяков? — голосок малышки-Лили дрожит от ужаса, и личико её вытягивается. — Ушибов? Папулечка, её обижали?
На лице отца такое растерянное выражение, что становится смешно, но на выручку снова приходит Ал.
— Это бродячая собака, Лил. У неё трудная жизнь.
— Но теперь собачка наша? — спрашивает девочка с робкой улыбкой, и её папа вздыхает.
— Мы здесь всего на месяц, — говорит он негромко. — Как ты думаешь, что будет с этим псом, если мы сначала его приручим, а потом бросим?
Ал смотрит на сестру, а девочка почему-то на меня поверх плеча отца.
— Ему будет очень грустно. Нельзя так поступать.
Я киваю с серьёзным видом. Поскольку девочка снова смотрит куда-то в сторону, они оборачиваются. Ал вновь задерживает взгляд на том месте, где я стою: ему опять видится дрожащее марево.
— Прости, пёсик, мы не можем тебя взять, — печально говорит Лили. — Давай хотя бы дадим ему попить. Так жарко.
Делаю шаг в сторону: раз она меня видит, для неё я обретаю плоть. Не хочется пугать её отца и брата ещё больше. Девочка вбегает в дом, задев полу чёрной мантии. Она быстро подтаскивает стул к кухонному шкафу, взбирается на него, достаёт глубокую зелёную миску, наполняет её водой, а потом пытается слезть со стула с полной миской в руках.
— Поставьте на стол, слезьте со стула и только потом берите в руки ёмкость с водой, юная мисс.
Она вздрагивает и оборачивается.
— Ты умеешь говорить?
Я закатываю глаза и слегка морщусь.
— Конечно. Но слышите меня только вы, Лили.
Заметив, что я общаюсь с ней официально, девочка выпрямляется и совершает абсолютно неожиданную вещь: она делает глубокий, изящный книксен. На стуле.
— Осторожнее, мисс. — Я мгновенно оказываюсь рядом и поддерживаю её за локоть. — Ваши манеры очаровательны, но подобные поклоны нужно делать на полу. Слезайте.
— Спасибо, сэр, — говорит она и спрыгивает на пол. Потом вновь устремляет на меня сияющие глаза. — Вы очень красивый.
Присаживаюсь на корточки и слегка щурюсь, стараюсь удержать серьёзное выражение лица. Она несмело дотрагивается до моих волос.
— Вы меня не боитесь?
Она отрицательно качает головой, и распущенные ярко-рыжие волосы колышутся на хрупких плечиках.
— Вы очень добрый. И глаза у вас такие чёрные, прямо как у моего Флаффи!
— Кто такой Флаффи?
— Мой плюшевый щенок. Я бы хотела настоящую собаку, но мама не разрешает заводить. Мы живём в городе, а не в деревне, как дедушка Артур и бабушка Молли, и мама говорит, что собаке будет плохо в квартире на пятом этаже. — Она вздыхает.
— Как зовут вашу маму?
— Джиневра. А папулечку — Гарри. Гарри Поттер. — Её лицо с россыпью едва заметных веснушек вновь озаряется улыбкой. — Мой папа — герой! Он спас всех волшебников от тёмного мага Волдеморта. Его знает вся страна. Я им очень горжусь!
«Герой, значит».
— Лилс?
Оборачиваюсь. На лестнице стоит Джеймс и с недоумением обводит комнату взглядом.
— С кем ты разговариваешь?
Девочка секунду смотрит на меня, и я качаю головой. Она понимающе улыбается.
— Да так. Джейми, там пёсик! Помоги мне принести ему попить. Ай!
Лили хватает полную миску и не удерживает. Вода льётся аккурат в мусорное ведро, которое Ал достал для уборки.
— Мда, — усмехается Джеймс, — теперь картофельные очистки плавают в… — Он присматривается, и лицо его изменяется. — АЛ!
Он бросается на улицу, я слышу обрывки разговора на повышенных тонах и понимаю, что Джеймс нашёл разбитую чашку. Лили выбегает из дома. Я выхожу следом, останавливаюсь на пороге.
— Ты сказал, что не знаешь, где она. Ты мне соврал. Это ты её разбил!
— Я… прости меня, я случайно…
Голос Джеймса срывается на крик:
— Ты всё делаешь случайно. «Случайно» — это твоя вечная отговорка, как будто она может искупить любую вину. Мне плевать, случайно или нет. Это была моя любимая чашка.
— Да что случилось? — спрашивает Гарри удивлённо, но на него никто не обращает внимания. Лили подходит к братьям и смотрит на них снизу вверх, то на одного, то на другого.
— Я уже извинился. Чего ещё ты от меня хочешь?
— Чтобы ты стал хоть чуточку ответственнее, — рычит Джеймс, надвигаясь на брата. — И не врал хотя бы. Мне не врал.
— Так. — Поттер встаёт между своими сыновьями, и те вынуждены разойтись в стороны. — Объясните толком.
— Он разбил мою чашку! — возмущённо кричит Джеймс, указывая на брата. — А сказал, что не знает, где она, когда я спрашивал.
— Ты её оставил на краю стола. Я случайно, ясно тебе? — завопил Ал, чуть не плача.
— А зачем ты соврал?
— Весь скандал из-за чашки? — Гарри не поверил своим ушам. — Где она? Я сейчас восстановлю её заклинанием, и всё…
— Не восстановишь. Этот болван ссыпал осколки в мусорку, а половина мелких наверняка осталась где-то на полу. Заклинание работает только до вмешательства.
— Да что за ерунда! — Гарри уже сердится. — Подумаешь, чашка. Это повод кричать на брата?
— Любимая чашка!
— Поехали, я куплю тебе такую же!
— По-твоему всё можно купить? — кричит Джеймс. — В гробу я видал твои галеоны.
— Что-то ты не особо возражал, когда я оплатил тебе музыкальные курсы, да и магловские игрушки тоже не с неба свалились.
— Ты намерен меня этим попрекать?
— Папочка, Джейми, пожалуйста, не ссорьтесь.
Голосок Лили звенит, как печальный колокольчик. Я внимательно вглядываюсь в лица отца и сына: Гарри Поттер сдержан и всё ещё сохраняет последние крохи доброжелательности, Джеймс же весь словно взведённый курок.
— Эту чашку мне подарила мама на Рождество. Тебе-то, понимаю, всё равно. Ты маму ненавидишь. Считаешь, что она испортила тебе жизнь. А для меня эта вещь была ценна.
Лицо Поттера-старшего темнеет моментально.
— Когда я говорил такое про маму? Ты что, Джеймс?!
Взгляд старшего сына становится колючим, лицо заостряется. Я чувствую волну ярости, щедро приправленную обидой.
— Не говорил, но думаешь, думаешь постоянно! — выкрикивает он пронзительным, ломающимся голосом и вихрем уносится в дом. Наверху громко хлопает дверь.
— Пап…
— А не пойти ли нам искупаться, а, бусинка?
Гарри подхватывает на руки дочку, которая выглядит расстроенной, но удовольствие от отцовских рук уже вытесняет в ней печаль, и она робко улыбается.
— Альбус, ты с нами?
«Необычное имя», — думаю я отстранённо.
Ал качает головой.
— Что-то не хочется, — говорит он совершенно несчастным тоном. — Может, потом. Вы идите.
Гарри ставит на пол малышку, помогает ей снять синее платьице. Она остаётся в белых трусиках. Лили звонко хохочет и убегает на пляж. Отец улыбается, глядя на неё, потом расстёгивает рубашку, обнажая подтянутый, крепкий торс, бросает её на качели и идёт за дочерью.
Альбус остаётся на веранде с псом, который, напившись, развалился на последней ступеньке крыльца.
* * *
Ближе к вечеру в семье воцаряется мир. Особенно когда дело пошло к ужину. Стоило только запаху запечённой сёмги пробраться наверх, в комнату, откуда уже три часа доносятся ужасающие звуки тяжёлого рока, Джеймс выполз на лестницу, как змея на солнышко, и замер там в нерешительности. Гордость спуститься не позволяла, но голод подталкивал вперёд.
Гарри лишь однажды бросает взгляд наверх, потом как ни в чём не бывало продолжает рвать салат. Лили валяется на диване с куклами, Ал сидит у окна с альбомом и делает набросок карандашом. Я заглядываю к нему через плечо: на плотном листе — море. Волны изображены огромными и вздыбленными, а из них по чёрной водной глади скачут разгорячённые кони. Их гривы — это морская пена, которую ветер рвёт на куски. Только море почему-то ярко-оранжевое, а кони — красные.
— Ужин готов, — объявляет Гарри. Он в мягких домашних брюках и светлой расстёгнутой рубашке — той же, что была на нём с утра. Волосы высохли торчком, в них видны белые вкрапления соли. Кожа загорелая, гладкая и сияющая на вид. Прикидываю его возраст — учитывая взрослого сына, не должно быть меньше тридцати, но выглядит он моложе.
За стол они садятся все вместе, и я вижу, как, прежде чем сесть, Лили задерживается на ногах для молитвы.
— Боженька, спасибо тебе за эту еду и за то, что привёл к нам Флаффи-старшего. Пусть у него заживут все синяки и ушибы. И за то, что у нас такой хороший папа. Аминь.
Гарри и Ал вежливо ждут, пока девочка возьмёт в руки ложку. Джеймс насмешливо приподнимает брови.
— Это что-то новенькое. Лили, ты где такого нахваталась?
— Всякий имеет право поступать так, как считает нужным. Говорить и делать то, что считает нужным, если это не противоречит общепринятым нормам, не нарушает закон и не мешает другим людям, — мягко произносит Гарри.
— Спасибо за нравоучение, па, — веселится Джеймс, — что ещё выдашь в качестве морали?
Альбус вздыхает над тарелкой.
— Ешь, сын. И помни, мой лимит терпения на сегодня почти исчерпан.
Гарри говорит спокойно, но за столом мгновенно становится тихо. Джеймс открывает рот, чтобы выдать нечто гениальное, но Ал вовремя толкает его под столом.
— Милая, кто тебе показал, как молиться?
— Я видела по телевизору, когда приходила к дяде Рону в гости. Там была девочка, и у неё было два брата, совсем как у меня, только она была старше своих братьев. И она молилась перед сном и перед обедом. А ещё у них была няня — огромная собака! Тётя Гермиона сказала, что это называется фильм.
— А ещё там был мальчик, который умел летать, и страшный, злой пират Крюк? — с улыбкой спрашивает Гарри.
— Да! Папуля, откуда ты знаешь? Ты тоже видел этот фильм?
— Есть такая книга.
— Ой! — Лили подскакивает на стуле от нетерпения и впервые за вечер косится на меня. Я ей слегка улыбаюсь. — А можно мы сегодня перед сном почитаем? Ну пожалуйста!
— Конечно, почитаем, — улыбается Гарри, и девочка, пританцовывая на стуле, принимается за рыбу и фасоль.
— И что, ты действительно думаешь, что на небе есть какой-то старик с длинной бородой, который рулит всем на земле? — спрашивает Джеймс нарочито серьёзно, игнорируя ещё один пинок под столом.
— Боженька есть, — Лили щедро намазывает масло на хлеб, — и он — не старец. Он вообще никто. Он — Бог. И у него много-много детей — это мы, люди. Он нас всех любит.
— Кто тебе это сказал? — говорит Джеймс прежде, чем отец успевает его остановить. — Если бы он всех нас любил, разве были бы войны? Плохие люди? — Лили поднимает большие глаза на брата, прекращая мучить хлеб. — Или, например, папа и мама…
— Джеймс.
Как пощёчина. Старший сын смотрит на отца с плохо скрываемым удовольствием, и я, снова занявший своё место в кресле, осторожно прикасаюсь к его душе.
В голове у мальчика бардак, как у всех подростков. Мешанина из желаний, сомнений, комплексов. Я поражаюсь, насколько сложным является испытываемое им чувство по отношению к отцу. Злость, ненависть, любовь, глубокая привязанность, раздражение, как огромный красный флаг, а сейчас — такое сильное, пожирающее все остальные чувства, мощное желание кусать. Найти то самое слабое местечко и хорошенько ударить, желательно чтобы больше не поднялся.
Джеймс на мгновение прикрывает глаза. Моё вмешательство отрезвляет его, и он больше не хочет ни спорить, ни ругаться.
— Дашь мотик? Я договорился с местными пацанами погонять.
Гарри не торопится с ответом. Он методично режет рыбу в тарелке на маленькие кусочки, подцепляет вилкой несколько фасолин и отправляет в рот.
— С какими пацанами? — спрашивает он, прожевав. — Ты здесь два дня, уже успел с кем-то познакомиться?
— Да так. Кое с кем. Ну, так дашь? Или все приедут, а я приду пешком, как лох?
— Убери из речи жаргонные словечки, — размеренно говорит Гарри, — и мотоцикл я тебе брать не разрешаю. Это магловская деревня, здесь летать нельзя. А для того, чтобы ездить, у тебя нет прав.
Джеймс бросает вилку на стол, и та громко звякает о тарелку.
— Это несправедливо. Ты притаскиваешь нас сюда каждое лето на месяц. Целый месяц книззлу под хвост! У меня друзья вообще-то.
— Которые с лёгкостью переживут твоё отсутствие некоторое время, — решительно обрывает сына Гарри. — Я вижу вас раз в полгода, а провести с вами время могу только летом, пока нахожусь в отпуске. Неужели так сложно…
— А кто в этом виноват, интересно? — шипит Джеймс. — Это ты ушёл из семьи, а теперь жалуешься, что тебе некогда нас видеть. Если бы ты не бросил нас ради…
— Джеймс Поттер!
Ал и Лили подпрыгивают одновременно. Гарри грохает кулаком о стол так, что звенит посуда, и секунду в маленькой кухне висит тишина.
Я наблюдаю за младшими детьми. Девочка испуганно мигает, переводя взгляд с отца на старшего брата. Ал сидит напряжённый и взволнованный, но потом удивительно спокойно произносит:
— Я сегодня новую картину нарисовал. Хотите посмотреть?
Его слова тонут в вязкой тишине. Джеймс резко поднимается со стула. Ножки со стоном чиркают о паркетный пол.
— Спасибо за ужин, я пойду.
— Куда? — Гарри тоже поднимается на ноги. — Скоро будет темно. Куда ты собрался?
— А тебе есть разница? — Джеймс натягивает лёгкую кофту и быстрым шагом идёт к выходу. Дверь с треском захлопывается перед его носом. — Ты не имеешь права меня тут держать! — в бешенстве кричит он. — Открой немедленно!
— Непременно. — Гарри уже стоит возле стола, сложив руки на груди, глаза его холодны. — После того, как узнаю, куда ты собираешься и когда планируешь вернуться.
— Далеко и никогда!
Лили начинает тихонько всхлипывать, и Альбус сразу берет её за руку. А я поднимаюсь из кресла. Напряжение в комнате накаляется до предела.
— Ответ неверный, попробуй ещё раз.
На лице Джеймса расцветают алые пятна, карие глаза становятся яркими и блестящими. Люстра на потолке начинает дрожать, слышится нарастающий гул, и лампочка в плафоне с громким звуком лопается, осыпая стол осколками. Лили взвизгивает. На отца семейства это не производит никакого впечатления.
— Я слушаю.
Гарри стоит, расставив ноги, и в его глазах блестит сталь. Обогнув стол, я останавливаюсь ровно за его плечом. Сколько раз я наблюдал картину, когда разъярённые родители били и унижали своих детей лишь только потому, что им было невыносимо больно? Уже поднимаю руку, чтобы успокоить отца, но он вдруг медленно выдыхает, и красное марево гнева вокруг него исчезает.
Дверь слегка приоткрывается.
— Приходи не позже десяти.
Джеймс застывает на месте, а Гарри чуть улыбается и негромко проговаривает:
— Опусти меч, сынок, на тебя никто не нападает.
Я перевожу взгляд на старшего. Он медленно расслабляется.
— Хорошо, па. Буду не позже десяти. Можно уже пойду?
Гарри кивает.
— Будь осторожен.
Когда Джеймс уходит, его отец едва слышно проговаривает длинную латинскую фразу: заклинание обнаружения. Джеймс зря надеется, что отец не узнает, где он был.
Вторым взмахом палочки Гарри восстанавливает лампочку в люстре, потом берёт на руки дочь.
— Ты хотел показать свою новую картину, Альбус.
Ал расстроен не меньше Лили, но не подаёт виду. Он несёт отцу и сестре своё оранжевое море, и они некоторое время внимательно его рассматривают.
А потом все трое выходят на пляж. Море слегка волнуется, но купаться это не мешает. Пока Ал и Гарри плещутся, я смотрю, как малышка рисует узоры на мокром песке. Вокруг, весело лая и высунув розовый язык, носится Флаффи. За горизонт медленно садится солнце.
— Папуля, — кричит Лили и отряхивает пальчики от песка, — смотри, я тоже нарисовала картину.
Гарри выбирается из морских волн и смотрит на странную долговязую фигуру в длинном одеянии, изображённую на мокром песке.
— Так. — Он присаживается рядом с дочкой на корточки. С его волос на спину и на грудь льётся вода. — Кто это, Лилс? Я?
Девочка трясёт головой, а потом показывает прямо на меня маленькой ладошкой.
— Это ангел, папа, он пришёл, чтобы всех нас спасти. Только я забыла кое-что.
И она рисует два огромных крыла за фигурой на песке.
Chapter 3: О прибрежном кафе, магловских сигаретах и долгих разговорах
Chapter Text
Оставляю белый дом ненадолго, чтобы найти мальчика. Джеймс был сильно расстроен, когда ушёл, и я волнуюсь, как бы не наделал глупостей. Найти его легко. Я могу «увидеть» человека в любой точке мира, если сосредоточусь. Но лишь того, кого видел однажды. Как это происходит мне неизвестно, но стоит мне захотеть, и я тут же появляюсь рядом.
Вот и сейчас я переношусь к Джеймсу Поттеру, стоит лишь о нём подумать.
Плетёное кружево тени от навеса укрывает столики прибрежного кафе. Лёгкий бриз треплет полосатые скатерти и разносит тихий звон бокалов. Само кафе — это скорее просторная веранда, сложенная из светлого дерева, выбеленного солнцем и морским ветром. Широкие окна распахнуты навстречу морю, лёгкие занавески колышутся от ветерка. Деревянный пол слегка поскрипывает под ногами. Вдоль стен стоят низкие диванчики с яркими подушками. Над головой, под самым навесом, висят гирлянды из разноцветных фонариков, мерцающих мягким светом, а с потолка свисают сети, полные морских раковин и поплавков, добавляя кафе морской колорит.
Джеймс сидит за дальним столиком. Перед ним — стакан воды со льдом. Он то и дело трогает волосы и ёрзает, бросая взгляд в сторону барной стойки. Я оглядываюсь.
За стойкой суетится хорошенькая девушка. Волосы её, прихваченные синим ободком, струятся на плечи золотистой волной и спускаются ниже талии. Она хрупкая и тонкая, одета в полупрозрачное нежно-розовое платье, сквозь которое просвечивает чёрный купальник.
Девушка мила со всеми, кто подходит к ней за выпивкой, улыбается, перекидывается парой лёгких фраз. Джеймс следит за ней исподтишка, то и дело прикладываясь к стакану с водой и отводя взгляд, когда она смотрит.
Усмехаюсь. Мотоцикл. Ну конечно. Джеймс решил впечатлить барышню и приехать на отцовском мотоцикле. Наверняка адская машина наворочена заклинаниями, поэтому Гарри и не разрешил её взять.
Девушка отдаёт большую кружку пенного высокому джентльмену и отбрасывает длинную светлую прядь с лица. Потом выходит из-за стойки и направляется прямо к Джеймсу. Тот спешно выпрямляется. Я наблюдаю за ним с улыбкой.
— Привет, — говорит она звонким голосом. — Джеймс, так? Ты был здесь позавчера. С… семьёй, верно?
— Ты запомнила, как меня зовут? Мы тут ужинали, когда приехали два дня назад в дыру под названием «Рай».
Облик мальчика совсем не вяжется с тем, что я чувствую в нём. Ему страшно до дрожи в коленках, но голос слегка ленивый, нагловатый, на лице напускное безразличие. Качаю головой: подростки.
— У меня хорошая память, — девушка садится рядом с Джеймсом. Тот вцепляется в стакан. — Как дела?
— Отлично. Ммм… Ты здесь работаешь? — спрашивает Джеймс и тут же краснеет.
Я слышу его мысли: «Что за идиотский вопрос?» Но девушка сразу отвечает:
— Это кафе моего отца. Я приезжаю из Лондона на каникулы и подрабатываю здесь. Как тебе в Раю?
— Неплохо.
— Ужасно скучно, скажи? — Она ослепительно улыбается. — Здесь совсем нечем заняться. Ты живёшь в белом доме на берегу, да? Папа говорил, что его сняли на лето.
— Да. Мой отец снял. Мы с ним видимся нечасто. Будем здесь месяц, пока у него отпуск.
— Кем он работает?
— В издательстве. Ведёт колонку в журнале, — уклончиво говорит Джеймс. Ему, конечно, нельзя нарушать Статут о секретности волшебников. Вряд ли Гарри Поттер работает в обычном магловском издательстве.
— Мои предки тоже развелись. Я живу с матерью в городе, сюда приезжаю на каникулы. А твой папа крут. Писатель, значит.
— Журналист.
Повисает пауза, и Джеймс судорожно ищет тему для разговора. Девушка же его внимательно рассматривает.
— Тебе не интересно, как зовут меня? — спрашивает она наконец со смешком.
На щеках Джеймса появляется лёгкий румянец.
— Ой, прости. Это… невежливо с моей стороны.
— Да ладно, — она уже смеётся. — Мария. Папа называет меня Мари.
— Тебе не нравится?
— Нет, это мило.
— А друзья как называют?
Джеймс смотрит на девушку неотрывно, подмечая гладкость и нежность её загорелой кожи, лёгкий румянец на щеках, запутавшееся солнце в золотых волосах, и я слышу его сердцебиение. Оно частое, заполошное. Рассматриваю мальчишку с улыбкой. Дети. Они такие искренние. И первые чувства — такие трогательные.
— Маришкой. — Девушка склоняет голову к плечу и улыбается. — Завтра у меня выходной, и мы с друзьями едем за дюны, хочешь с нами? Я тебя со всеми познакомлю.
— А что там? — Джеймс хочет казаться не слишком заинтересованным, в чём терпит поражение.
— Заброшенная шахта. Про неё всякие небылицы рассказывают. Будто там привидения живут и всякое такое.
Лицо мальчика озаряется улыбкой. Уж о привидениях он знает больше, чем какие-то там маглы.
— Тебя отец отпустит с нами?
— Сам уйду, — усмехается Джеймс, — во сколько встречаемся?
— Завтра в семь. Здесь. Идёт?
— Идёт.
— Мари! — зовут от стойки. — Гости.
Она солнечно улыбается и дотрагивается до его руки.
— До завтра, Джеймс. Не опаздывай.
* * *
Вечером белый дом на краю Северного моря выглядит совсем не так, как днём. После заката он преображается, окутываясь мягким приглушённым светом. Солнце, утонув за горизонтом, оставляет лишь румянец на темнеющем холсте небес, а уставший от жары дом вступает в царство тишины и покоя.
Стены, ранее сиявшие белизной, приобретают тёплый медовый оттенок. В окнах загораются огоньки ламп, на веранде, под крышей, зажигаются гирлянды. Их мягкий свет озаряет небольшое пространство перед крыльцом, на котором спит плешивая дворняга.
Я стою возле самого края суши, там, где волны, растеряв мощь, уже становятся робкими и ласково касаются прибрежного песка. В первый миг после заката море, словно зачарованное, замирает, его поверхность становится гладкой и зеркальной, отражает небо, на котором уже разворачивает своё расписное полотно летняя ночь.
Часом ранее я наблюдал, как Гарри сидел на крыльце и курил. Дым струился из его приоткрытых губ. Он только что уложил в кровать малышку Лили, предварительно почитав ей про Питера Пэна. Заглянул к младшему сыну, который сидел в кровати с папкой для рисунков, и потом ждал старшего с прогулки.
Джеймс пришёл почти в одиннадцать. Я видел, как он нарочно тянет время, чтобы не явиться домой в обещанный срок. Он просто медленно шёл по побережью в сторону дома, периодически залезая в море и споласкиваясь. Гарри ждал.
В его изящных пальцах, едва тронутых загаром, тлеет сигарета, тёмные сейчас глаза устремлены вдаль, и он не кажется мне теперь моложе своих лет. Тридцатилетний мужчина, чуть уставший и очень несчастный.
— Ты, наверное, злорадствуешь, да? — вдруг произносит он в никуда. — Ты всегда знал, что я — ничтожество. Такой же, как мой отец. Мне иногда интересно послушать, что бы ты сказал, увидев меня сейчас? — Гарри затягивается, вдыхает едкий дым, потом медленно выдыхает. Сизое облачко прожило недолго: его сразу развеял ветер. — Ничего нового я бы не услышал, но… Просто послушать твой голос — это моя несбыточная мечта. Теперь я могу его только вспомнить.
Мгновения теряются во вдохах и дымных выдохах. Я стою рядом, меня овевает ветер, треплет на мне чёрные одежды, откидывает волосы назад и полощет их в воздухе.
— Я победил благодаря тебе. Но ты этого уже не узнал, было слишком поздно, чтобы сделать хоть что-то. И я, чёрт возьми, ненавижу себя за это. — Гарри резко отбрасывает докуренную сигарету и вытаскивает новую. — Сидел и смотрел, как дурак, как ты умираешь. Как кровь растекается под тобой в отвратительную бурую лужу. Я ничего, ничего не сделал. Просто ушёл. Проклинаю себя за это.
Довольно опрометчиво волшебнику говорить про себя такие слова. Накладывать проклятие на самого себя чревато серьёзными последствиями. Прищуриваюсь и пытаюсь рассмотреть его магическое ядро, ауру, но натыкаюсь на мощный ментальный щит. Надо же, какая магическая мощь.
Понимаю, что он обращается к кому-то, кто был для него дорог, но умер, возможно, по его вине. У Поттера всё внутри скручивается в тугой комок, но он не плачет. Слёзы не доходят до глаз, останавливаются где-то в груди и перекрывают поток воздуха. Он прерывисто вздыхает.
— Наверняка ты знал дюжину заклинаний, чтобы вытащить человека из подобной ситуации. Ты знал как, а я — нет. И теперь я живу с осознанием того, что мог бы тебя спасти, но не сделал этого. Прости меня.
Я вглядываюсь в его лицо. Вижу теперь и морщины возле глаз, и легкую небритость. Он выглядит измотанным, каким-то неживым. Мгновенно понимаю, что чувство вины, которое владеет им сейчас, выпивает из него жизнь по капле. Яркие зелёные глаза потухли. Он больше не сияет.
— Видишь, я не слишком-то хорошо устроился в жизни. Впрочем, ты никогда и не сомневался в том, что из меня не получится ничего путного. А хотя… Вряд ли ты вообще думал об этом. Обо мне.
Меня в грудь ударяет глухая, звериная тоска. Такая сильная, что я даже делаю шаг назад. Мир словно выцветает, теряет краски у меня на глазах. Я уже не вижу огней города вдалеке и звёздного неба. Не слышу шума прибоя. Я словно замерзаю, становлюсь окоченелым. Я смотрю на Гарри, который молча курит сигареты одну за другой на крыльце белого дома, и чувствую застарелую, давнишнюю боль, которая терзает его душу много лет, беспощадно и изощрённо, словно искусный палач.
— Я всегда чувствовал это к тебе, мне кажется, всегда знал, что только ты можешь утолить мою жажду. Господи, Северус, как бы я хотел, чтобы ты был жив. Пусть ненавидел бы меня, пусть я бы потерял всякую возможность тебя видеть, но ты был бы жив. Я бы знал, что ты дышишь, где-то живёшь, что-то делаешь… А так… — Гарри, щурясь, смотрит в темнеющее море. Оно поёт ему свою шумную песнь. — Ты умер, и я умер вместе с тобой.
«Он умер, — думаю я, глядя, как тёплые волны прокатываются под моими босыми ступнями. — Гарри Поттер оплакивает кого-то уже много лет. Кто этот Северус?» Жаль, что вместе с жизнью люди теряют свои имена. Душам они ни к чему.
Неподдельная, искренняя скорбь. Бездонная тоска. Мне хорошо знакомо это чувство. Я всегда старался избегать скорбящих людей. Трёхсотому достаточно было лёгкого касания, чтобы облегчить человеческую ношу, а мне почему-то сразу открывались подробности, душевные страдания, причины. Поэтому я и избегаю прикосновений. Однажды напарник предположил, что в посмертии мы получаем то, чем жили в жизни. Ангелом я ощущаю мало радости. Неужели моя человеческая доля была столь горька?
Мои домочадцы уже спят. Гарри, дождавшись сына, ничего не сказал ему по поводу опоздания, только предложил поужинать. Джеймс отказался и поднялся в свою комнату. Отец проводил его внимательным взглядом, вздохнул, выбросил очередной окурок в песок, почесал за ухом прижившегося пса и ушёл в дом. Скоро встанет солнце, а свет в кабинете погас всего несколько минут назад.
Воздух рядом электризуется, и в невидимых воздушных завихрениях появляется Двести пятьдесят четвёртый.
— Ух! Что-то я рано, да? — спрашивает он жизнерадостно. — Ты куда пропал?
Окидываю его взглядом. Длинные чёрные волосы, обрамляющие худое лицо; серые глаза, вечно горящие лукавством; фигура, закутанная в такую же чёрную мантию, как у меня, — высокая, ладная.
— Меня всего пару дней не было, чего ты всполошился?
В больнице всегда много ангелов, особенно в детской. В тихих палатах дни тянутся медленно и однообразно, но в отделении детской хирургии вечно творится нечто невообразимое. Если пожелает, ангел может показаться любому человеку, но Двести пятьдесят четвёртый всегда оставался невидимым.
Невидимым для глаз ребят, но ощущаемым каждой клеточкой их тела. Он приносил с собой вихрь озорства и веселья. По палате летали игрушки, забавно танцевали плюшевые медведи, цветные карандаши оживали и самовольно рисовали на серых больничных стенах весёлые рожицы. Дети, прикованные к постели, удивлённо переглядывались, не понимая, что происходит, но в их глазах неизменно загорались искорки смеха.
Двести пятьдесят четвёртый с улыбкой наблюдал за тем, как лица детей оживают. Он подталкивал их к шалостям и играм, заставляя их забыть о боли и страхе. То подушка вдруг ни с того ни с сего взмывала с кровати в воздух, то одеяло сползало и принималось танцевать. Дети, понимая, что здесь творится что-то необычное, начинали сами придумывать игры, подталкиваемые невидимой силой. Вечером, когда гасили свет, ангел пел им тихие колыбельные, и они засыпали с улыбками на лицах, веря в то, что чудо существует, и что оно всегда рядом, даже если его не видно.
Мыльные пузыри из ниоткуда, летающие тарелки и капельницы вносили сумятицу и бардак в размеренную жизнь больничной палаты, но действовали крайне положительно на больных ребят. Ожидающие операции дети расцветали на глазах. У них начинали блестеть глаза и румянились лица, они улыбались и смеялись, а врачи и медсёстры только разводили руками. По всему госпиталю ходила молва, что в детской хирургии поселился полтергейст.
— Да не всполошился я, с чего ты взял? — голос у Двести пятьдесят четвёртого — как у молодого парня, хотя выглядит он моим ровесником. Мы все застываем в том возрасте, в котором умерли. — А что ты тут вообще делаешь, на этом пляже?
Я бросаю короткий взгляд на белый дом, и он на секунду оборачивается.
— А, понимаю. Нашёл «своих» людей?
Пожимаю плечами.
— Чувствую, что должен быть здесь.
Он смеряет меня взглядом и говорит сочувственно:
— Знаю, умер твой человек. Тебе нелегко пришлось.
Приподнимаю брови.
— Это был не мой человек. Девочка Трёхсотого. Он повёл её дальше.
— Ну да, — неопределённо тянет он, рассматривая меня. Горизонт уже начинает светлеть. — Знаешь, я тоже считаю, что люди должны быть здесь. Успеют они пройти по этой чёртовой Тропе.
Я смотрю на него в недоумении.
— Чёртовой, — повторяю так, будто ослышался. Двести пятьдесят четвёртый криво ухмыляется.
— Этот мир создан для них, так почему бы им тут не задержаться подольше? Что такое сотня лет? И это в лучшем случае. Людская старость длится почти полжизни. Разве это справедливо? — Он садится на песок. Волны не могут потревожить ни его одеяния, ни бесплотного тела. — Половина жизни детство, половина старость и небольшой промежуток, когда человек может наслаждаться жизнью, рожать детей, любить другого человека. Ты ощущал любовь, Триста девяносто четвёртый? Знаешь, что это?
Я молча смотрю на него некоторое время. Любовь, как по мне, ещё хуже скорби.
— Он дал им любовь, земную жизнь, они могут ощущать эту чёртову воду, тепло солнца, аромат цветов! А потом что? Тропа? Ну её нахрен, — вскрикивает он. — Сияющий путь в лучшую жизнь. Половина из них становится как мы. Хорошо тебе, Триста девяносто четвёртый? Каково тебе в лучшем мире?
— Паршиво, — соглашаюсь, снова глядя на горизонт.
— Вот. И мне тоже. А что делать? Хоть их спасти, а кого спасти нельзя… — Его лицо на мгновение искажается, и до меня долетает едва ощутимая волна эмоций. — Я попытаюсь.
Кроме нас на пустынном берегу пока никого нет.
— Я нарушаю все мыслимые и немыслимые правила для них. «Ангел должен быть невидим и неощутим». — Он сплёвывает на землю без слюны. Привычка, оставшаяся от человеческой жизни. — Если мне нужно будет вывернуться наизнанку или нарушить ещё сотню глупых правил, чтобы спасти чью-то жизнь, я это сделаю. Я считаю, что мы здесь не для того, чтобы вести по Тропе. Мы что, псы-поводыри? Мы ангелы, чёрт бы нас драл!
— Двести пятьдесят четвёртый, замолчи. Ты доведёшь нас до беды.
Мы оборачиваемся. На мокром песке поодаль стоит Трёхсотый. Лицо у него неимоверно усталое. Он зачёсывает назад короткие светло-рыжие волосы и шагает к нам.
— Как там твой Тоби? — внезапно спрашиваю я.
Двести пятьдесят четвёртый кивает.
— Идёт на поправку. Операция была сегодня, прошла хорошо. Он совсем недолго пробыл в реанимации, уже в палате.
Вокруг нас начинают появляться другие: близко рассвет. Я стою, готовлюсь слушать Песнь, думаю о правилах и способах их нарушить. Мне впервые кажется, что тот, кто сделал меня ангелом, — полный идиот.
* * *
Весь следующий день Гарри Поттер работает. Я сижу на диване в крохотном кабинете, где помещается только письменный стол, заваленный бумагами, папками, свитками, и наблюдаю за бегущей строкой текста на ноутбуке. Семья волшебная, но в доме полно магловской техники. Сыновья учатся в Хогвартсе — закрытой школе для владеющих магией, но и у одного, и у другого — магловские увлечения. Гарри работает на обыкновенном ноутбуке, хотя иногда записывает свои мысли пером на пергаменте. В коридоре горят электрические лампы, а рядом в подсвечнике стоит свеча. Еда готовится исключительно при помощи магии, зато уборку Гарри любит делать руками и использует волшебную палочку лишь когда торопится.
Приглядывая в окно за Алом и Лили, играющими на пляже, Гарри пишет статью. Я читаю пару абзацев и с удивлением понимаю, что она рассказывает о том, как работает телевизор. Поттер пишет об эфирном, кабельном, спутниковом сигналах и их преобразовании в изображение и звук. В подробности он не вдаётся, пишет легко и интересно. Так, что я даже зачитываюсь.
Узнаю, что его любимый фильм — «Моя прекрасная леди», что он несколько раз смотрел «Заводной апельсин» и обожает музыкальные комедии. Он рассказывает магам о магии маглов, как бы нелепо это ни звучало. Как простой ящик, набитый проводами и микросхемами, превращает невидимые волны в кино.
После обеда малышка Лили отправляется спать, Ал, прихваченный солнцем и намазанный кремом, сидит в своей комнате за мольбертом, Джеймс снова убежал в прибрежное кафе, а у Гарри звонит мобильник.
Не отвлекаясь от экрана ноутбука, он зажимает значок громкой связи.
— Гарри Поттер.
— Как официально.
Голос слегка озадаченный и насмешливый. Поттер бросает взгляд на экран телефона.
— Марк, привет. Я ответил, не посмотрев, кто звонит. Как дела?
— Всё хорошо. Ты уехал из Лондона?
— Два дня назад. Я же предупреждал тебя.
— Я помню. — На том конце висит небольшая пауза. — Что делаешь?
— Работаю. Марк, сейчас неподходящее время, хорошо? Я тебе перезвоню вечером.
— Ты только скажи, ты в Раю, да?
Гарри вздыхает, глядя на незаконченную статью и список в блокноте под заголовком: планы на июль.
— Да, Марк. Точно в Раю.
— В том доме на побережье, как и в прошлом году? Я приеду вечером.
— Да-да, — невнимательно говорит Поттер, просматривая свои записи. — Пока. — Из телефона доносятся короткие гудки, Гарри ерошит волосы, втягивает воздух сквозь сомкнутые зубы, встряхивается и тихо говорит: — О чём я хотел написать, Северус? Сбили с мысли…
Внимательно его рассматриваю. Он разговаривает со своим Северусом постоянно, будто это вошло у него в привычку. Встав с постели сразу после восхода солнца, он сказал уже знакомое: «Новый день, Северус. Ты видишь?». Когда принял быстрый холодный душ и вышел на пробежку, взглянул на поднимающееся из синих волн огромное красное солнце, проговорил сбивчивым голосом: «Наверняка ты рано вставал? Видел восход солнца? Красиво, правда?». Поттер мог обратиться к нему совершенно неожиданно, в обыденной ситуации, по любому поводу: «Молоко убежало. Ты бы непременно сказал, что я безрукий», «Блин, Северус, где ключи, я же положил их сюда…», «Ты не помнишь, где словарь? Куда я его дел в прошлый раз?», «Интересно, какое блюдо ты любил больше всего? Я неплохо готовлю», «Вчера я читал твой учебник…»
Он действительно открывает её, эту книгу. Потрёпанный переплёт, пожелтевшие страницы, на обложке — закипающий котёл. Старая, грязная, в каких-то пятнах, но бережно хранимая, не пыльная. Поттер достаёт её из ящика стола, нежно переворачивает страницы, исписанные мелким убористым почерком, и улыбается. Им владеет щемящее чувство утраты, но вместе с тем на душе его светло. Перечитывая любимые моменты, он тихо смеётся, и его лицо становится совсем молодым. Я представляю его мальчиком. Наверное, он был безрассудным сорванцом, который лез куда ни попадя и крепко получал за это. А Северус…
Мне становится с каждым днём всё интереснее: кто он? Гарри не рассказывает, но я чувствую, как сильно он к нему привязан, как сильно любит его, и ощущаю всё большее любопытство.
Что это за чувство, пронесённое сквозь годы? Разве так бывает — любить умершего столько лет? Вязнуть и вязнуть в этой безнадёге, плыть до горизонта, бежать по пустыне к миражу. Ведь у него была целая жизнь. Жена, дети, другая любовь, семейные хлопоты. Что-то подсказывает мне: он не смог забыть. Но это глупо! Глупо жить несбыточными, безумными мечтами, думать и думать о человеке, которого больше нет, разговаривать с ним, как будто он находится рядом.
Может, Гарри Поттер сумасшедший? Скорбь и любовь сплелись в нём в такой тугой клубок, что он не отличает больше реальность от мечтаний? Но он не похож на безумца. Он просто раз за разом возвращается к нему, своему Северусу, кем бы тот ни был. Как будто просто представляя, что он рядом, Гарри становится легче жить и дышать.
День медленно течёт в мареве летнего зноя. Джеймс пропадает где-то. На секунду отлучившись, я убеждаюсь, что у него всё хорошо. Встретившись с друзьями Марии, он вместе со всеми сел в машину с открытым верхом, и они укатили к краю пляжа, туда, где много лет назад добывали уголь. Заброшенная шахта. Семеро подростков не полезли внутрь, а расположились рядом с пиццей и несколькими бутылками колы. Мария сидела рядом с Джеймсом, то и дело дотрагиваясь до него загорелым нежным плечом. Мальчик слегка краснел, но храбрился.
Дома Лили случайно опрокидывает палитру с только что разведёнными красками Альбуса, но мальчик снова демонстрирует удивительное спокойствие. Он только гладит по голове расстроенную сестру, улыбается ей и смешивает нужные оттенки снова. Ужинают на веранде. Лили и Ал тайком подкармливают под столом Флаффи. Гарри делает то же самое, только втайне от детей. На закате к крыльцу подъезжает зелёный навороченный джип.
— Дядя Марк! — вскрикивает малышка Лили и бросается к машине.
От Гарри до меня доносится лёгкая волна недовольства. Он не слишком рад приезду этого человека.
Из джипа выскакивает невысокий блондин, одетый в белый летний костюм, разрисованный пальмовыми листьями. Он немного младше Поттера, на вид парню лет двадцать пять. Нежное лицо, голубые глаза. Красавчик.
— Принцесса! — Марк подхватывает на руки Лили и невысоко её подбрасывает. Девочка хохочет, а парень целует её в щеку и ставит на ножки. Потом пожимает руку Альбусу.
— Что ты здесь делаешь? — спрашивает удивлённо Гарри, подходя.
— Я же сказал, что приеду.
— Когда?
Марк улыбается тепло и ласково, склоняет голову к плечу. Его золотые волосы закат окрашивает оранжевыми всполохами. Вечер рисует в голубых глазах блики и звёзды. Он подмигивает Алу и вновь смотрит на Гарри. От него во все стороны, как морская волна, ударившаяся о камень, брызжет счастье.
— Когда звонил. Ты меня не слушал? — он подходит ближе, засунув руки в карманы брюк. Всё его существо устремляется к Гарри. Ему до одури хочется поцеловать Поттера, но рядом вертится Лили, и я мгновенно понимаю, что они — любовники.
— Извини, — пожимает плечами Поттер, потом улыбается, — наверное, пропустил мимо ушей. Был занят статьёй.
— Не страшно.
— Дядя Марк, мы хотели искупаться. Ты с нами?
— С удовольствием, маленькая рыбка. А папа пойдёт? — Он бросает лукавый взгляд на Поттера.
— Придётся, — ухмыляется тот и стаскивает футболку через голову. Флаффи громко гавкает, напоминая о себе, и деловито бежит к воде.
После того, как накупанным и довольным детям выдано мороженое и они убегают в дом смотреть мультфильмы на самом обыкновенном магловском телевизоре, Гарри и Марк располагаются на веранде с бутылкой виски и двумя бокалами.
— Немного, — возражает Поттер, когда Марк тянется, чтобы налить ему напитка. — Мне завтра в издательство с утра.
— Ты же в отпуске.
Они сидят в плетёных креслах, слева шумит море.
— У меня сроки горят. Мне разрешили работать дистанционно. Я закончил сегодня статью, завтра нужно показать её редактору.
— Пошли по электронке. — Марк делает маленький глоток и смотрит на Гарри неотрывно. — Ты умеешь?
— Умею. Но мне всё равно нужно в издательство.
Рука Марка, всё это время кравшаяся по подлокотнику кресла, накрывает пальцы Гарри. Тот свою руку не убирает, но негромко говорит:
— У меня дети здесь.
— Они пошли в дом.
— Джеймс не вернулся с прогулки.
— Он уже взрослый. — Марк тянет к нему через подлокотник, и мягко утыкается носом в щеку. — Я соскучился. Не видел тебя целый месяц. Долбанная командировка, а теперь отпуск твой… Целая вечность.
— Как дела в отделе?
— Да к чёрту их всех. Сами не знают, чего хотят. Я теперь больше бумажной волокитой занимаюсь, только и успеваю, что бланки заполнять.
Гарри мягко улыбается, поворачивает голову и легко касается губами губ Марка. Поцелуй мягкий, нежный, Марк подбирается в кресле, всем телом тянется к Поттеру, он изгибается и привстаёт, чтобы тревожным рукам было больше пространства, чтобы больше обнять, погладить, потрогать. Когда бледная ладонь ложится Гарри на пах, тот решительно разрывает поцелуй и убирает её оттуда.
— Прекрати, — говорит он с улыбкой, — в комнате Ала горит свет, и мы на улице. Любой может нас увидеть.
— Это уж точно.
Я давно заприметил идущего к ним Джеймса. Тонкая фигура мальчика едва виднелась в стремительно сгущающихся сумерках, и влюблённые, конечно, её не заметили сразу. Джеймс останавливается возле крыльца, сунув руки в карманы джинсов, всем своим видом демонстрируя презрение и отвращение.
— Привет, Джейми, — улыбается Марк. Мальчик бросает на него мрачный взгляд.
— Джеймс, — поправляет он, — никак не запомнишь? Извините, что помешал. Я уже ухожу.
Гарри встаёт с кресла.
— Ты снова поздно. Всё в порядке? — Джеймс несколько раз кивает. — Ужин на плите.
— Я не голоден. Мы поели с друзьями. — Мальчик искоса смотрит на Марка, потом цедит: — Не отвлекайся, — и уходит в дом.
Марк приподнимает брови.
— Дерзкий парень. Меня б мой старик за такое…
— Ему нелегко.
Гарри садится обратно в кресло, и я тут же улавливаю волну разочарования, исходящую от Марка. Да, теперь-то его любовник совсем не настроен на интим.
— Он тяжело пережил мой развод с Джинни, а потом ещё раз… Он очень зол на меня. Это пройдёт со временем.
Они сидят до позднего вечера. Марк, конечно, остаётся, выпив два бокала крепкого виски. Дом погружается в ночь. Из маленькой спальни на первом этаже сначала доносятся обрывки приглушённого разговора, звуки поцелуев, тяжёлое, страстное дыхание. Я вижу тесное переплетение обнажённых тел, как светловолосая голова запрокидывается от переполняющего тело восторга. Я вижу руки, скользящие по коже, слышу срывающийся, на грани беззвучия шёпот:
— Гарри, пожалуйста…
Покидаю спальню, выхожу на берег моря. В небе плывут тёмные облака, затмевая яркий месяц. Вокруг меня вьётся дворовая псина. Нагибаюсь и протягиваю ей ладонь. Животные видят нас всегда. Собака сразу ластится, толкает носом руку, гладь, мол, давай.
— Что, дружок, нашёл себе людей?
Пёс совершенно точно улыбается, глаза у него умные и добрые, шкура рыжая в чёрных пятнах на брюхе. Я глажу его по голове между ушами, потом поднимаю взгляд к звёздам.
— И я, кажется, тоже.
Chapter 4: О поцелуе, смерти и большой волне
Chapter Text
Малышка Лили полюбила со мной разговаривать. Она показывала мне свои рисунки и криво слепленные из пластилина фигурки, крутилась перед зеркалом и, как истинная будущая девушка, спрашивала, красивая ли она.
— Очень красивая, — серьёзно отвечал я, и она улыбалась.
Девочка лепила куличики из мокрого песка и, если рядом никого не было, рассказывала мне, что это школа Хогвартс.
— Когда-нибудь я там буду учиться, и, конечно, на Гриффиндоре, как мой папулечка и мама. — Она показывала на куличики и называла башни: — Это директорская! Смотри, ангел, тут три маленьких башенки, тут всегда живут директора Хогвартса. А это башня Гриффиндора. Тут находится гостиная. И главная башня. — Лили ткнула пальчиком в самый большой и от того кривой куличик. — Тут есть лестница, которая ведёт во все концы замка.
Я сидел рядом на песке. Моя чёрная мантия растекалась подо мной складками. Одной рукой упирался в песок, другой — поддерживал падающую «башню». Эта девочка будила во мне что-то болезненно забытое. Что-то, что навсегда было похоронено в памяти человека, которым я когда-то был. Я мучительно припоминал, глядя в её очаровательные зелёные глаза, отчего они мне так дороги, и не мог вспомнить. До боли. До злости. А маленькая Лили всё лепила свои куличики и рассказывала про волшебную школу, где хотела бы побывать как можно скорее. Она сокрушалась, что ещё очень мала и что её магия не проснулась, выражала испуг и сомнения по поводу того, что она не проснётся никогда, но я уже видел вокруг хорошенькой головы с рыжими кудряшками сияние, характерное для магов, — ауру. Она будет волшебницей, вне всякого сомнения.
Вечером, когда солнце уже купалось в море, расписывая его волны в охристый и алый, Лили поманила меня за угол дома и показала на кривоватый шалашик из досок и кирпичей, явно сделанный своими руками. Всё строение было покрыто махровым полотенцем.
— Ангел, иди сюда, я сейчас раскрою тебе свой секрет. Ты ведь никому не скажешь, да?
— Не скажу, — улыбнулся я. Мне так хотелось ощутить мягкость её медных волос ладонью, но я не чувствую прикосновений.
Малышка оттопырила мизинчик и протянула мне кулачок:
— Клянись.
Она была так взволнована, так верила в свою маленькую детскую тайну, что у меня что-то замирало внутри. Наши мизинцы зацепились друг за друга, как крючки.
— Клянусь.
Она была очень серьёзна. Клятва скреплена, и я с любопытством заглянул под полотенце. В «домике» стояли баночки с водорослями. Игольчатыми, с большими круглыми лепестками, с длинными тонкими листьями, похожими на тину, нитеобразными, — разными-разными. Много баночек.
— Это твоя коллекция?
Лили улыбнулась.
— Да. Я собрала их на берегу, спасла. Они высыхали. А вот эту, — она достаёт крайнюю баночку с полудохлым красным растением, — я нашла совсем сухой, поместила в воду, и через час она ожила, представляешь? Я как ты, ангел!
— Почему ты так считаешь?
Мне действительно было интересно знать ответ на вопрос.
— Ты пришёл, чтобы нас спасти. А я спасаю водоросли. О них совсем некому позаботиться.
Бродячий пёс и правда прижился. В один из дней Гарри даже принёс ошейник. Лили радовалась, словно наступило Рождество. Вопреки его же словам о том, что собаку нельзя приручать, Поттер всё больше проникался к ней симпатией, ласкал и гладил, а Флаффи не оставался в долгу: вилял хвостом, кидался в ноги и громко оглашал окрестности радостным лаем, когда хозяин возвращался с работы. Белый дом никто не беспокоил, и домочадцы тоже жили мирно.
Джеймс всё чаще пропадал в прибрежном кафе у Маришки с новыми друзьями, и младшие дети оставались одни, пока отец был в редакции.
Я смотрю как они резвятся на пляже: Альбус, худой и высокий, с горящими тёмными глазами, — и пылающая длинноволосая Лили. Рядом носится Флаффи. Кидается на ревущие волны и с лаем пытается их укусить.
Волосы у Лили напитаны магией. Я чувствую это ясно. Они необычно длинные и густые для её четырёх с половиной лет, не заплетаются ни в какие причёски и будто живут собственной жизнью: подвижные, мягкие, своевольные. Я любуюсь ими. Лили роет бассейн в песке. Альбус носит воду в красном ведёрке, но сколько они ни стараются наполнить глубокую яму, вода всё время впитывается.
— Ещё! — командует Лили, и Ал сразу бежит к морю.
Они играют всё утро. Поттер снова уехал в редакцию, оставив за старшего Джеймса, но тот улизнул к друзьям при первой же возможности. Лили всё больше углубляет яму.
— Нет, — говорит Альбус, устав в конце концов бегать за водой, — так мы бассейн не наполним. Нужно ведро побольше. В кладовой было. Я сейчас найду.
Смотрю как он убегает к дому. Солнце прихватило загаром его плечи и шею, к вечеру он будет весь красный.
— Триста девяносто четвёртый.
Оборачиваюсь. Позади меня стоит напарник. Внутри моей бессмертной души что-то с хлопком лопается. У Трёхсотого такой вид… Я хорошо знаю этот взгляд: он только что с Тропы.
— Кто? — спрашиваю ровно.
Он говорит лишь одно слово:
— Тоби.
— Что? — Я поднимаюсь на ноги. — Два дня назад Двести пятьдесят четвёртый говорил, что Тоби идёт на поправку.
Трёхсотый качает головой.
— Я только что провёл его по Сияющей Тропе. Но дело не в этом.
Я молча жду и смутно догадываюсь, что он сейчас попросит.
— Нам нужна твоя помощь. Его хранитель… Словом, он не в себе. Мы ничего не можем сделать. Он пугает персонал больницы. В палату никто не может войти. Он не отдаёт тело мальчика и на всех кидается. Может быть ты сможешь его образумить. Помоги.
Смотрю на малышку Лили в жёлтом купальнике. С ней Альбус, вон он уже идёт, несёт огромное ведро. К обеду должен вернуться Гарри. Осталось всего два часа.
— Хорошо. Но ненадолго.
Я поворачиваюсь к девочке, которая как ни в чём ни бывало продолжает копаться в песке.
— Маленькая мисс. — Она поднимает на меня зелёные глаза, и я понимаю, что Трёхсотого она не видит. Только меня. — Обещаете мне не лезть в воду, пока я не вернусь?
Она хлопает длинными ресницами. Солнце зацеловало её личико веснушками. Глазки скользят мимо меня, за мою спину, и по золотистым отблескам в них я понимаю, что она рассматривает мои крылья. Или яркое сияние от них, которое охватывает всю мою фигуру.
— Но жарко же, — говорит она слегка капризно. — А с Альбусом можно?
— Нет. — Я качаю головой. — Мой друг в большой беде, мне нужно ему помочь, но я не могу оставить вас одну, если вы мне не пообещаете. Я знаю, что вашему слову можно верить.
Личико Лили становится заинтересованным.
— Вашему другу — такому же ангелу, как вы? — спрашивает она.
— Да.
— Хорошо. Я даю слово.
Улыбаюсь, касаюсь её удивительных волос, которые тут же начинают пушиться и льнуть к моей руке, и исчезаю.
Мы с напарником появляемся в госпитале, и первое, что я вижу — это испуганные медсёстры, столпившиеся в коридоре перед хирургическим отделением.
— Раздался сигнал тревоги, я вошла в палату и вдруг свет погас, — говорит одна из них, со светлыми кудрями, выбивающимися из-под голубой шапочки. — Не просто выключился, а как будто растворился. Я оказалась в темноте, это днём-то! А потом я увидела… — Она сглотнула.
— Что увидела-то, что? — нетерпеливо спрашивает другая.
— Он летал.
— Кто?
В коридоре мгновение висит тишина, а потом в свистящем шёпоте кудрявой слышится почти животный страх.
— Мальчик. Тоби. Он парил над кроватью, как будто… Дух.
Женщины с недоумением смотрят на неё.
— Мариса, ты на грудь, случайно, не приняла? Как это «парил»?
— А так! — огрызается Мариса, встряхивая кудрями. — Бедняжка как Богу душу отдал, так это началось. Он завис в футе от кровати, вещи по палате летали. Кардиомонитор сам собой разбился. Я к главврачу, говорю, священника надо вызвать. Тот сначала посмотрел на меня, как на сумасшедшую, а потом и сам увидел: летал мальчик.
— И раньше там какие-то странности случались, — поддерживает кудрявую медсестра в очках. — Бывало, вещи сами собой двигались. А сам мальчишка — тоже не от мира сего, всё говорил, что с ним находится высокий крылатый человек с длинными чёрными волосами и тенью пса. Надо же такое выдумать.
Дальше я слушать не остаюсь. Прямо сквозь стеклянные двери иду в палату, где лежал Тоби.
Сразу становится понятно, о чём судачат женщины. Двести пятьдесят четвёртый сидит на кровати и держит тело на руках. Трубки от капельниц болтаются оборванные, палата выглядит так, будто в ней швырялись мебелью: разорванные подушки, развороченная постель, разбитое медицинское оборудование. Любимая кружка Тоби, остатки печенья, игрушки и раскраски, которые он так любил, — всё валяется на полу.
— Убирайся, — голос глухой и безжизненный.
Делаю прямо противоположное: вхожу в палату, сажусь рядом с ним на распотрошённую постель.
— Ты что, не слышал? Убирайся!
На узкое бледное лицо Двести пятьдесят четвёртого страшно взглянуть. Оно словно высечено из камня, а глаза сверкают злобой.
— Отдай мальчика, — произношу я ровно, — не пугай медперсонал. Тоби уже не здесь. Ты держишь на руках только тело.
Он вскидывается, словно я его ударил. За его плечами я вижу два сияющих луча, уходящих вверх, в потолок палаты, — крылья. Они не материализовались, но уже видны.
Боль. Невыносимая, всепоглощающая боль разрывает его на части. Я чувствую её, как свою. «Так не должно быть. Ангелы не ведают таких мук».
— Я любил этого мальчишку. Любил его светлую улыбку, его смех, его наивные вопросы, — шепчет Двести пятьдесят четвёртый. — Он знал, что я здесь. Он видел меня. Посмотри.
Над кроватью по стенам развешаны рисунки, а на них многократно повторяющаяся фигура с собачьей тенью. Они все как один крылатые.
— Тоби видел твои крылья? — спрашиваю я удивлённо. — Но это невозможно. Никто не может видеть крылья ангела, пока тот сам их не призовёт.
Прижав к груди мёртвого мальчика, Двести пятьдесят четвёртый бесслёзно плачет, ослеплённый своим горем. Мир отзывается на его скорбь удивительным образом: все предметы вокруг будто подсвечиваются, отрываются от пола, левитируют в нескольких дюймах от поверхностей и слегка покачиваются в воздухе, как будто в невесомости.
Медсестра, заглянувшая в палату, застывает на мгновение в ужасе. Со стороны коридора через стекло смотрят другие работники больницы. У всех напуганные лица.
— Я проклинаю свою беспомощность, свою неспособность спасти этого ребёнка. Я должен был защитить его, оберегать… — Меня ударяет такой волной боли, что я на мгновение зажмуриваюсь. — Я нёс за него ответственность, он был вверен мне. Но я его не уберёг. Ничего не сделал. Он умер прямо в этой кровати, один! Я оставил его и даже не был рядом…
Стоять возле Двести пятьдесят четвёртого просто невыносимо. Крылья за его спиной становятся всё отчётливее, а потом, загоревшись до невозможности ярко, вдруг рассеиваются. Исчезают без следа. Он издаёт звериный рык, прижимает к себе бедного мальчика. Маленькое личико запрокидывается, безвольные тонкие руки висят вдоль тела. Я отвожу глаза. Меня раздирает на кусочки чувство несправедливости и неправильности. Не должны маленькие дети умирать. Зачем они Ему за Золотыми Вратами?
— Ты нашёл «своих» людей, не так ли? — внезапно спрашивает Двести пятьдесят четвёртый с искажённым лицом. Я лишь вздрагиваю от неожиданности. — Я их видел. Мужчина тридцати лет, его сыновья и маленькая девочка. Что если их сердца перестанут биться? Как тебе?
Не позволяю себе думать о его словах. Вздыхаю по привычке, оставшейся от человеческой жизни. На самом деле лёгких у меня нет, плечи поднимаются и опускаются.
— Почему он умер? Скажи вслух.
— Осложнение после операции. Стремительное. Никто не смог ничего поделать, — горько произносит он, глядя в спокойное личико мальчика.
— И ты тоже. Положи ребёнка на кровать и уходи. Дай родителям его оплакать.
Он меня не слышит. Его лицо, вытянутое и бледное, обрамлённое чёрными волосами, ничего не выражает.
— Ты такой же как я, — произносит Двести пятьдесят четвёртый. Его серые глаза разглядывают меня внимательно, цепко. Во взгляде неумолимо что-то меняется. Он вдруг щурится, потом хватает меня за руку. — Твоё искупление — здесь, на земле — только началось. А моё — уже закончилось.
Как только он произносит эти слова, палату озаряет яркий свет. Кажется, он исходит отовсюду и нет ему никаких преград. Медсестра, в ужасе застывшая на пороге, хватается за голову и тут же падает в обморок, как подкошенная. Люди за стеклом шарахаются вглубь коридора. Прямо под ногами Двести пятьдесят четвёртого разворачивается Сияющая Тропа. Я быстро отхожу от неё в сторону, как от ядовитой лужи.
Ангел целует Тоби в лоб, осторожно кладёт его на кровать. Потом смотрит на меня измученным взглядом. Я знал его в жизни? Почему мне так знакомы сейчас его синие глаза?
— Поспеши.
И всё исчезает.
Раздаётся неимоверный грохот — это падают на пол все левитировавшие в воздухе предметы. Кроме меня в палате больше нет никого. В дверях суетятся медсёстры: приводят в чувство кудрявую медсестру.
А меня вдруг словно иглой коллекционную бабочку пришпиливает к месту осознание.
Тоби видел своего ангела крылатым. Видел постоянно, рисовал его. Что если…
«...вы красивый…»
«...о водорослях некому позаботиться…»
«...ты пришёл, чтобы нас спасти…»
«...ой! Забыла самое главное!..»
Малышка рисует на песке мою высокую фигуру, закутанную в чёрную мантию, а потом и два крыла за спиной.
Она видит мои крылья!
Рывок магии такой, что меня как будто разодрали. Сначала я не могу понять, почему ничего не вижу кроме зеленовато-голубой мути и какого-то мельтешения, а потом осознаю: я перенёсся прямо туда, где находилась маленькая Лили. В море. От ужаса душа холодеет намертво.
Глубина небольшая, но меня захлёстывает с головой. Волны, накатывающие на берег, достаточно мощны, чтобы затянуть маленькое тельце под воду, ударить, закрутить и утопить.
— Лили!
На берегу кто-то кричит, кажется, кто-то кинулся в воду.
— Лили, где ты!
Я быстро оглядываюсь, потом немного возношусь над волнами, чтобы оглядеть море, и вижу жёлтое пятно. Её качает совсем рядом, приподнимает ласково и опускает, как в колыбельке. Раскинуты руки, волосы растеклись рыжими змеями по воде. Лили плавает лицом вниз. Камнем бросаюсь к ней, переворачиваю, приподнимаю, прислушиваюсь: стучит! Жива.
Совсем рядом в бушующей пене появляется Гарри, большая волна относит его на несколько шагов от дочери, но он упорно плывёт вперёд. Беру девочку на руки. Сейчас никто не сможет отнять её у меня. Отцу ничего не грозит: он сможет выплыть с небольшой глубины. Выношу девочку на берег, игнорируя её мокрых братьев. Из дома, белый как мел, выбегает Марк с аптечкой в руках и застывает на месте. Они меня не видят, для них малютка плывёт по воздуху сама. Я опускаю девочку на песок, дотрагиваюсь до её груди ладонью и шепчу:
— Энервейт.
Слово приходит само. Я не помню откуда, просто знаю, что так нужно сказать. Из воды позади меня выбегает Поттер. Я уже слышу его тяжёлое дыхание и неровные, торопливые шаги.
— Просыпайся, маленькая мисс.
Я целую девочку в лоб, и она тут же открывает глаза. Рядом коленями в песок падает Гарри. Он хватает дочь за плечи и заглядывает ей в глаза.
— Лили, Лили!
Она закашливается, вода покидает её тело. Отец не может отпустить её из объятий. Рядом стоят заплаканный, мокрый до нитки Альбус и испуганный до серости Джеймс. Марк, запинаясь в латинских словах, скороговоркой шепчет какие-то заклинания.
Но девочка вдруг садится прямо на песке, смотрит мимо отца и братьев, на меня. Протягивает маленькую замёрзшую ручку.
— Ангел. А где твои крылья?
И теряет сознание.
* * *
В комнате горит ночник в виде пчёлки: тусклый свет испускают непомерно большая голова, полосатое пузо и усики. Я сижу на полу, на толстом пушистом ковре, подогнув под себя ногу и привалившись к стене. Вокруг собралась прекрасная компания: плюшевые медведи, тигры, жирафы, пушистые кошки, заботливо расчёсанные, все в криво завязанных бантиках, куклы с немыслимыми причёсками. И я — мрачный, в чёрной мантии, безумно уставший.
Гарри сидит на кровати дочери с книжкой в руках. Лили, прислонившись к отцу плечом, рассматривает картинки.
Как только девочка потеряла сознание, Гарри словно обезумел. Он изо всех сил тряхнул мягкое безвольное тельце, закричал страшным голосом её имя и тут же аппарировал в госпиталь св. Мунго. Растерянный, напуганный Марк тут же взял себя в руки и позаботился о мальчиках. Альбуса он успокоил, укутал в тёплый плед и сделал для него чай. С угрюмым Джеймсом попытался поговорить, но тот только бросил на него мрачный взгляд и скрылся в своей комнате.
Тем временем в магической больнице появившийся словно гром среди ясного неба знаменитый Гарри Поттер устроил такую панику, что сбежались все врачи, медсёстры и больные. Лили обследовали несколько раз, опутали её сетью диагностических заклинаний. К тому моменту, как взволнованному отцу сказали, что девочка здорова, она уже пришла в себя и сразу разрыдалась от страха: над ней нависала целая толпа незнакомцев в белых халатах. Гарри, услышав её плач, ворвался в палату, раскидав двух санитаров, попытавшихся заступить ему дорогу.
К вечеру девочку отпустили домой, Поттеру выдали успокоительное зелье и персонал вздохнул с облегчением.
— Папуля, ты сильно испугался?
Рыжая головка Лили покоится на груди у отца. Он гладит её длинные волосы и касается макушки губами.
— Конечно. Ты больше не будешь так делать, правда?
Девочка не отвечает. Она встаёт на коленки в кровати и серьёзно смотрит на отца. Я тоже смотрю. Гарри выглядит так, будто вот-вот уснёт. Лицо его несчастное и неимоверно уставшее.
— Папочка, я не могу такого обещать, — тонким голосом говорит Лили.
— Что значит: не можешь?
— Я спасала Флаффи.
Секунду в комнате висит тишина, потом Поттер неверяще переспрашивает:
— Флаффи?
Лили поспешно кивает несколько раз.
— Да. Он играл с волнами, а потом его захлестнуло и он совсем исчез. Я думала, он утонул. Звала Альбуса так громко, и ангела, но никто не ответил. И я решила, что смогу его вытащить.
«Она кинулась в море за собакой», — думаю я отрешённо.
Проклятая псина, живая и здоровая, валялась сейчас на крыльце в новом ошейнике. Сытая и довольная.
Гарри в абсолютном шоке выслушивает эту историю, потом устало сжимает переносицу.
— Лили. Ты понимаешь, что могла сегодня погибнуть? Из-за какой-то… дворняги ты могла утонуть. Разве я не говорил тебе держаться подальше от больших волн?
Лили виновато шмыгает носом, потом ныряет под руку отцу и крепко его обнимает.
— Та волна была огромная, — говорит она тихо. — Я думала только позвать Флаффи, но она накрыла меня и утянула.
«Ударило, сбило с ног и утащило туда, где малышка не смогла достать до дна», — снова думаю я, и в моей голове всё это выглядит ужасно. Воображение рисует несколько печальных картин, чем бы всё это могло закончиться.
С Гарри, судя по всему, происходит нечто похожее, потому что он вздрагивает всем телом, потом прижимает дочь к себе.
— Ничто не стоит твоей жизни, Лилс, ты поняла? Никогда больше так не делай. Тебя спасла магия, а если бы нет, что тогда?
Девочка слегка возится в его объятия, потом негромко говорит:
— Но папуля, меня спасла не магия. Меня спас ангел.
— Ну хватит, дочь! — Терпение Гарри закончилось. Он осторожно отстраняет от себя девочку и смотрит ей в глаза. — Брось все эти глупости. Какие ещё ангелы? Ты понимаешь, что могла погибнуть? Умереть!
Огромные зелёные глаза Лили наполняются слезами. Она молитвенно складывает ладони на груди.
— Папочка, не злись. Это правда был ангел. Он вынес меня из моря, а потом… потом меня что-то сильно толкнуло в грудь, сюда. — Она показывает в область сердца. — Мне на секунду стало больно, и я снова увидела его. Он стоял совсем рядом. Да он и сейчас здесь.
Гарри серьёзно сдерживается, чтобы не вспылить.
— Здесь? Где? — недовольно спрашивает он.
Лили показывает на меня. Я не шевелюсь. Белый плюшевый медведь слева составляет мне компанию.
— Ты хочешь сказать, что видишь его прямо сейчас? — спрашивает Гарри. — Он с нами?
— Да, он сидит вон там. Он очень устал и, наверное, тоже на меня сердится.
— Я не сержусь, маленькая мисс, — тут же отзываюсь я мягко.
— Нет, сердишься, — расстроено отвечает Лили, — я же вижу. Вы за весь вечер не сказали мне ни слова, мистер ангел. И больше не играете со мной.
Гарри смотрит на свою дочь в полном замешательстве, потом переводит взгляд туда, где, сроднившись с игрушками, сижу я. Мне не хочется даже шевелиться. Как будто случившееся сегодня лишило меня последних сил.
— Ну, хорошо. Расскажи мне, как выглядит этот ангел, — осторожно просит Гарри, внимательно рассматривая пространство между жирафом и слоном с огромным красным хоботом.
«Левее смотри, — думаю я, — я здесь».
— Он очень высокий, выше тебя, папуля, в чёрной длинной мантии, широкой, как шатёр. У него чёрные волосы до плеч и тёмные глаза. Очень красивые!
В лице Гарри такой ужас напополам с изумлением, что мне на секунду кажется: сейчас упадёт в обморок уже он.
— Ч-что?..
Лили возится с игрушечным щенком Флаффи и не замечает ошеломления отца.
— Да, папочка. Я тоже удивилась, в книжках ангелы совсем не такие, а он во всём чёрном. Он поцеловал меня в лоб и назвал «маленькая мисс».
Я внимательно наблюдаю за Поттером. Его лицо стремительно теряет краски, он даже пошевелиться не может. Им владеет такое смятение, что я начинаю волноваться. «Да что происходит?»
— Так, Лилс, подожди, я сейчас приду. — Он выходит из комнаты и спускается на первый этаж.
Девочка устраивается поудобнее в кровати и посылает мне нежную улыбку. Некоторое время мы просто смотрим друг на друга.
— Вот, взгляни. — Гарри возвращается со старой газетой, разворачивает её перед Лили. — Ты этого человека видишь, милая?
Она смотрит на фотографию и улыбается.
— Да, папочка. Это он.
Я поднимаюсь с пола, захожу ему за спину и смотрю на собственное лицо на пожелтевшем газетном листе. Номер «Ежедневного пророка», август 1997 года. Заголовок гласит: «Новым директором Хогвартса назначен Северус Снейп».
— И… он всё ещё здесь, Лили? — спрашивает Гарри совсем тихо.
Она кивает с улыбкой.
— Он стоит прямо за твоим плечом, папуля.
Chapter 5: О вреде надуманных статей, семейных ссорах и магическом камине
Chapter Text
Гарри сидит перед камином, глубоко провалившись в кресло. Его лицо напряжено, взгляд устремлён в зеленоватое магическое пламя. Отблески огня пляшут на его лице, подчёркивая резкие тени под глазами и угрюмую складку меж бровей. Волосы, обычно непокорные и взъерошенные, сейчас тускло лежат на плечах. Зелёные глаза становятся почти демонически яркими из-за отражающихся в них бликов. Пальцы крутят бокал с виски. Он, после того как наполнил его час назад, сделал всего два глотка. Дом спит, за окном уже светает.
Кажется, что ещё немного и Гарри взорвётся, выпустив наружу всю накопившуюся злость и обиду. Но он молчит, сдерживая себя. Сам себе пленник в собственной темнице.
Мысли его хаотично, беспокойно мечутся в голове. Я считываю его мрачные эмоции, как текст из древнего фолианта: вглядываясь и вникая.
После того, как я узнал, кем являюсь, практически ничего не изменилось. Я не первый ангел, кто узнаёт про свою человеческую жизнь. Никаких особых чувств по этому поводу не испытываю. По-прежнему ничего не помню, и собственное лицо на старой фотографии в газете выглядит незнакомо.
Разве что я вмиг понимаю, что Гарри всё это время плачет по мне. И всё мгновенно встаёт на свои места.
Ангел рано или поздно должен найти «своего человека», который знал его при жизни и которому он был дорог. Я появился в белом доме не просто так. Я должен был спасти малышку от гибели и — что? Спасти ещё и её отца?
Сложив руки на груди, наблюдаю, как Гарри медленно отпивает из бокала, слегка морщится, глаз от магического пламени не отрывает. Приближаюсь, сажусь перед ним на корточки, вглядываюсь в печальное молодое лицо.
— Что я могу сделать для тебя? — спрашиваю негромко. Конечно, он не слышит. — Как мне тебе помочь?
Секунды сливаются в минуты, и всё тихо, сонно, серо. Гарри смотрит сквозь меня. Потом неожиданно выпрямляется в кресле, отставляет бокал и тихо произносит:
— Значит, ты здесь, да, Северус?
Северус. Моё имя. Только оно для меня — пустой звук. Я не помню, как был этим мужчиной, которым он восхищается, которого он так крепко любит. Его любовь я вижу так же ясно, как ночью луну, а днём — солнце. Она горит в нём ровным пламенем свечи, тонким и трепетным, и этот маленький огонёк — его опора. Единственное, что заставляет жить.
Тёмные сейчас, невероятно глубокие глаза осматривают комнату в безумной надежде. Мне становится так же больно, я чувствую, как бешено колотится его сердце и непроизвольно сжимаются пальцы. Он действительно верит, всей душой верит в эту секунду!
— Северус, — шепчет он едва слышно, — если это правда, и ты слышишь, пожалуйста, подай какой-нибудь знак. Я пойму, только… Только не мучай меня больше.
Взгляд всё скользит по комнате, а я застываю. Я могу уронить на пол вазу, могу разбить посуду в шкафчике на кухне. Я могу поднять его на руки, призвать крылья и показать ему мир с высоты птичьего полёта. Я могу показаться ему сам, сию минуту сделать так, что он меня увидит.
Я могу. Но он не готов. Он испугается. Люди хрупки, для них небесные сферы и всё, что с ними связано, — непонятно, таинственно и потому страшно. Мне не хочется его пугать. Но кое-что сделать всё же нужно: успокоить. Его непременно нужно успокоить, Гарри на грани безумия, и я должен…
Протягиваю руку к его плечу, но, когда до прикосновения остаётся всего дюйм, он весь словно сдувается. Его душу затапливает такой волной обречённости и отчаяния, что я застываю.
— Ты дурак, Гарри Поттер, — говорит он сдавленно и трёт ладонями лицо. — Сумасшедший. Северус мёртв уже пятнадцать лет, а Лили просто выдумщица. Маленькая девочка с бурной фантазией.
В этот момент камин за моей спиной ярко вспыхивает.
— Гарри? — зовёт негромкий голос.
Оборачиваюсь.
В камине зависло изображение молодой женщины с пушистыми тёмными волосами. Женщина, судя по всему, только встала с постели: фигура отражается в пламени по пояс, но я замечаю воздушное кружево сорочки под тонким шёлком халата.
— Гермиона. — Он улыбается и садится на пол перед камином.
— Что случилось? Я только что получила твою сову. Что-то с детьми?
— Нет, всё хорошо. Извини, что разбудил.
— Я рано встаю. Так что случилось?
Секунду Поттер молчит, потом, тщательно подбирая слова, произносит:
— Что ты знаешь о том, как люди переходят Грань? О привидениях, душах? Категории, магическая классификация. Что-нибудь.
Девушка в камине ненадолго задумывается.
— Есть разные классификации: по характеру происхождения, по намерениям и мотивации, по взаимодействию с человеком. Пассивные, активные, с агрессивной аурой или миролюбивые. Ты и сам это знаешь.
— Да, но… Существуют ли привидения, способные влиять на события среди живых?
— Ты имеешь в виду взаимодействие с материей? — спрашивает Гермиона и тоже садится на пол перед своим камином. — Но ты ведь сталкивался с привидениями, Гарри. Это лишь отпечаток души человека. Они бесплотны, а значит не могут, скажем, взять чайник и налить себе чай. Поэтому они проходят сквозь стены, а над полом парят.
— А полтергейсты? Пивз умел швыряться вещами.
— Полтергейст — магическое существо. Это психическая энергия человека, переродившаяся через магию. Не душа. Да и привидения — не души.
— Ты можешь мне посоветовать какие-нибудь книги, где можно подробно изучить этот вопрос? — Гарри устало прикасается к переносице. У него красные глаза.
— Что происходит? — спрашивает с тревогой Гермиона. Она внимательно вглядывается в его лицо и щурится. — Тебя преследует какое-то привидение? Существуют ритуалы, которые отгоняют…
— Мне не нужно никого отгонять, — с неожиданной злостью произносит Поттер. — Я просто хочу знать, почему моя четырёхлетняя дочь видит в нашем доме Северуса Снейпа!
Красивое лицо девушки вытягивается, глаза становятся огромными. Она не переспрашивает, но ей становится явно не по себе. Тишину некоторое время нарушает лишь треск магического пламени, в котором колеблется и дрожит изображение.
— Но Гарри, этого не может быть, — говорит она наконец. — Снейп умер…
— Пятнадцать лет назад. Я хорошо об этом помню. Он умирал на моих руках и на твоих глазах. — Гарри сжимает кулаки. — А теперь его вдруг начала видеть Лили. Как это объяснить?
Он рассказывает ей то, что произошло вечером. Гермиона внимательно слушает, прикусывает щеку изнутри.
— Лилс описала его подробно. Чёрные волосы, чёрные глаза. Это Снейп, вне всякого сомнения. Откуда бы она могла знать о нём?
— Например, Джинни рассказывала ей о человеке, в чью честь был назван Ал. И показывала какие-нибудь старые колдографии.
— Джинни ненавидит Снейпа. Когда она узнала, что я хочу дать Алу второе имя Северус, был грандиозный скандал. Она надеялась второго сына назвать в честь своего отца, а не моих умерших родственников и… — Тут он запинается, и в глазах Гермионы появляется понимание. — Словом, она не стала бы этого делать.
— Значит, Лили сама где-то о нём слышала. Он герой войны, директор Хогвартса. Может быть, братья рассказывали ей, или профессор Бинс на истории магии. Вариантов уйма, Гарри.
Снова повисает тишина. Поттер опирается спиной на кресло. Вид у него несчастный и очень усталый.
— Она говорила так уверенно, — тихо произносит он. — Несколько дней назад я начал замечать, что она разговаривает с кем-то. Почти постоянно, словно у неё появился воображаемый друг. И… так притворяться, Гермиона, так играть в четыре года? Ей как будто кто-то действительно отвечает. Она не могла бы выдумывать такие стройные и длинные разговоры.
— Извини, я правда не знаю, чем тебе ещё помочь. Могу подобрать литературу в министерской библиотеке, но ты ничего нового из книг не почерпнёшь. Невозможно воскреснуть через пятнадцать лет после смерти.
Гарри опускает голову.
— На мгновение я действительно поверил.
Лицо Гермионы искажается от жалости, она, забывшись, тянется к плечу друга, но потом вспоминает, что находится в камине.
— Хочешь, я выйду к тебе ненадолго?
Поттер мотает головой.
— Нет, не нужно, я в порядке. А тебе через три часа уже на работу.
— Гарри, ты не думаешь вернуться в аврорат? — спрашивает Гермиона нерешительно. — Тебе нужно дело, которое займёт всё твоё время. Теперь, когда вы с Джинни разведены, что тебе мешает? Ты же любил свою работу.
— У меня есть работа.
— Гарри Поттер, герой второй магической войны, — помощник редактора в каком-то второсортном журнале про маглов, — скептически проговорила Гермиона. — О чём ты там пишешь? В прошлом номере я читала про тостер.
— Меня всё устраивает.
— Прости, дорогой, но ты зарываешь голову в песок. Ты, такой талантливый маг с огромной силой, прозябаешь в редакции, погружённый в бумажки. Ты растрачиваешь свою жизнь, убиваешь себя. Даже если Снейп видит всё это откуда-то… — она беспомощно подняла руки, — сверху… или снизу, например, ему это не нужно. Прекрати себя терзать.
На губах Гарри появляется улыбка.
— Что, думаешь, он-таки в аду?
Она невесело усмехается, тянется куда-то за пределы камина, потом подносит стакан с водой ко рту.
— Я серьёзно. Ты принимаешь желаемое за действительное. Ты не можешь его отпустить, разговариваешь с ним, ты раз за разом падаешь в эти несбывшиеся отношения. Это не нормально, Гарри. Скорбеть можно год, два, но не пятнадцать лет по человеку, которого ты, по сути, даже не знал. Ты любишь иллюзию, свою собственную любовь к Снейпу. Так нельзя. Посмотри, до чего тебя довело это чувство. Оно разрушило твою семью, сделало несчастными твоих детей. У них больше нет родителей, есть отдельно мама и отдельно папа. Ты живёшь в крохотной квартирке в Лондоне, занимаешься какой-то чепухой. Тебе ничего не интересно, ты застыл, Гарри!
Голос девушки взвивается вверх, но Поттер даже не реагирует. Он только замирает на секунду, а потом кивает.
— Всё так. Но я ничего не могу поделать с этим.
— Можешь, — твёрдо произносит Гермиона. — Выброси все газеты, все фотографии со Снейпом, которые ты собрал. Прекрати писать ему письма и складывать в стол, прекрати с ним разговаривать. Думаешь, почему Лили вдруг придумала себе воображаемого друга? Её отец придумал его себе раньше!
— Ты помнишь, как я рассказал тебе обо всём тогда, в палатке? — вдруг спрашивает Гарри. — Когда Рон ушёл, и мы остались одни на несколько дней в том лесу.
Гермиона печально кивает.
— Я ушам своим не поверила. Всё думала, какой странный розыгрыш. Но потом…
— Потом, когда я держал его всего в крови? — Она качает головой. — Позже?
— Позже, когда ты напился в первую годовщину победы на его могиле. Тогда я поверила окончательно.
От Поттера совершенно неожиданно во все стороны расходится мощная волна боли. Будь он зверем, уже бы завыл. Меня толкает упругой волной его магии в грудь, толкает физически, и я, не успев ничего понять, делаю шаг назад, потом ещё один. В этот момент Гарри поворачивает голову, словно слышит звук моих шагов; его взгляд скользит мимо по тёмной маленькой гостиной. Гермиона тревожно наблюдает эту картину.
— Остановись, Гарри. Хватит, — говорит она негромко, — ты доведёшь себя до беды.
— Да ничего со мной не случится, — отвечает он с горькой улыбкой, — не волнуйся.
— Это не шутки. Ты маг, а не простой человек, в тебе полно магии. Ты хочешь, чтобы она повернулась вспять? Или чтобы случился какой-нибудь выброс? Что у тебя висит на шее? — Он запоздало хватается за кулон в виде прозрачной капли, но Гермиона снова качает головой. — Это концентратор, так? Зачем он тебе?
— У меня головные боли, я рассеян в последнее время, — нехотя признаётся Гарри. Лицо его подруги мрачнеет всё больше.
— Потому что ты почти не спишь и постоянно себя грызёшь.
— Со мной всё нормально. — В его голосе слышится уже раздражение. — Я позвал тебя не для того, чтобы слушать нотации. Пожалуйста, достань мне допуск в министерскую библиотеку. Сам я буду недели две оформлять.
Гермиона сдаётся.
— Хорошо. Но ты только время потеряешь зря. — Она уже поднимается на ноги, чтобы разорвать каминную связь, но потом всё же возвращается обратно. — Гарри, пожалуйста, вспомни, что у тебя дети. Не губи себя.
Камин гаснет. В комнате царит утренняя свежая серость. За раскрытым настежь окном ревёт прибой.
* * *
«Ужас на побережье: Гарри Поттер едва не потерял дочь.
Солнце, море, песок — идиллия, вмиг обернувшаяся кошмаром. Гарри Поттер, национальный герой, обычный любящий отец, едва не лишился самого дорогого — своей младшей дочери, Лили Луны Поттер.
По словам очевидцев, трагедия развернулась на одном из немноголюдных пляжей деревни Рай, где отец с детьми проводит летние каникулы. Ранее нами сообщалось о трагическом расставании звёздной пары. Некоторые наши читатели до сих пор сокрушаются по этому поводу, но мистер Поттер и бывшая миссис Поттер (по их же заявлениям) остались в хороших отношениях.
По словам очевидцев, девочка надолго осталась у моря совсем одна. Некоторое время всё было тихо, она играла на песке, но потом вдруг бросилась в воду. Вчера было объявлено штормовое предупреждение, волны доходили до трёх метров высоту. Почему ребёнок остался совершенно один в таких условиях — это серьёзный вопрос…»
— Ну всё. Сейчас начнётся.
Гарри со свежей газетой сидит на кухне. Он спал не больше часа, и под его глазами чёрные круги. На коленях у него ноутбук, где уныло белеет пустой документ. Прочитав первую полосу «Ежедневного пророка», Поттер тяжело вздыхает.
— И откуда они только всё узнают?
«... отец появился вовремя: девочку уже не было видно на поверхности воды. Гарри Поттер, не задумываясь о собственной безопасности, ринулся в бушующее море. По словам очевидцев, он яростно сражался с волнами, но течением его постоянно отбрасывало назад. В итоге малышку спасла её собственная магия…»
Из гостиной доносится странный свистящий звук, а потом безо всякого перехода женский крик.
— Поттер! Где моя дочь?!
На мгновение прикрыв глаза, Гарри откладывает газету и медленно идёт в соседнюю комнату. На первом этаже вообще нет дверей. Пространство маленькое, и комнаты перетекают одна в другую. Входы оформлены арками, и через одну из них я вижу невысокую худую женщину с длинными рыжими волосами, одетую в ночную рубашку, накинутый наскоро халат и мягкие матерчатые тапочки. Заметив Гарри, она одним прыжком, словно разъярённая кошка, бросается к нему.
— Где Лили?!
— Успокойся, всё в порядке, Джинни…
— В порядке? Ты чуть не убил нашу дочь!
Она ничего не слышит. У женщины испуганное бледное лицо, волосы в беспорядке, словно, встав с постели, она тут же кинулась сюда по каминной сети. В глазах плещется ненависть. Я вижу её, оплетающую разум и душу, как мерзкий, отвратительный паразит.
— Лили! — она срывается с места и быстрым шагом идёт сначала в кухню, потом на улицу. — Лили!
Мрачный Гарри следует за ней по пятам, уже не пытаясь что-либо объяснить. Лили и Ал играют на крыльце с Флаффи. Увидев мать, девочка радостно подпрыгивает:
— Мамочка!
Джинни подхватывает на руки дочь и в гневе поворачивается к Гарри.
— Собери детей. Я их забираю. Каникулы они проведут в Норе, с бабушкой и дедушкой.
— Джин…
— Не смей. Не смей мне ничего говорить. — Она наставляет на него волшебную палочку. Гарри лишь мельком смотрит на тускло мерцающий огонёк на конце артефакта и снова поднимает глаза на бывшую жену. — Ты… Я доверила тебе малышку, а ты оставил её одну возле моря, без присмотра. Ну ты и свинья, Гарри Поттер.
Лили вздрагивает на руках матери, и прелестная улыбка на её лице мгновенно пропадает.
— Мамочка, не ругай папу! Он не виноват. Ему нужно было срочно уехать по работе, а я обещала, что не пойду в воду. Но собачка…
— Ах, срочная работа, да? — выплёвывает Джинни и без разговоров направляется в сторону камина.
В дверях показывается ничего не понимающий Альбус.
— Ал, собирай вещи. Вы уходите отсюда.
— Джинни, не сходи с ума, — повышает голос Поттер, заступив ей дорогу к камину. — Ты же видишь, все здоровы, всё хорошо. Это была ужасная случайность. Со всяким могло случиться.
— Нет! — выкрикивает она истерично, вцепившись в дочь. — Со мной не могло случиться. Со мной не случилось ни разу, чтобы дети подверглись опасности. Случилось с тобой, Гарри Поттер!
— Да, да. Я виноват. Но я заканчивал дела в редакции. Мне нужно было… Чёрт, я не собираюсь перед тобой оправдываться!
— Вот и прекрасно. Мне твои оправдания не нужны.
Он пытается его обойти, но Гарри стоит на проходе, словно скала.
— Джинни, я вижу детей два раза в год. На Рождество и летом. Пожалуйста, я их отец, в конце концов!
— Жил бы дома, видел бы каждый день, отец, — презрительно говорит она, сузив глаза. Рука её снова поднимает палочку. — Может, ты забыл, что я и проклясть могу? Отойди с дороги.
Тут Лили, вывернувшись из рук матери, спрыгивает на пол, бросается к отцу, обхватывает его руками за пояс и кричит что есть мочи:
— Мамочка, не надо! Не проклинай папу, пожалуйста, прошу.
Со второго этажа спускается разбуженный Джеймс в растянутой майке и пижамных штанах. Некоторое время он в недоумении смотрит на разъярённую мать, бледного отца, заплаканную сестру и брата, застывшего в дверях дома, потом осторожно спрашивает:
— Ма? Что ты тут делаешь?
Как ни странно, это слегка разряжает обстановку. Джинни палочку опускает.
— Давайте сядем и выпьем чаю все вместе, — вдруг предлагает Альбус, но на него обращаю внимание только я.
— Мы уходим.
Джинни напролом идёт в гостиную, и Гарри ловит её за плечи. Между ними, вцепившись в рубашку отца, всхлипывает Лили.
— Отпусти меня немедленно, Поттер.
— Успокойся, — тихо просит он, — не пугай детей.
— Я? Я пугаю детей? Может, тебе напомнить, как ты приходил в стельку пьяный каждый день под утро, пока я кормила грудью Лили? Может, тебе напомнить, как ты в припадке бешенства разгромил детскую, упившись в хлам? Ты не в себе, Гарри Поттер, тебе лечиться надо. Убери руки, или я за себя не отвечаю. О чём я только думала, отпуская детей с тобой к морю!
Она с силой отталкивает бывшего мужа, но хрупкой женщине не так просто сдвинуть с места взрослого мужчину. Я чувствую, как терпение Поттера трещит по швам, и делаю шаг за его спину. Если он потеряет над собой контроль, мне придётся вмешаться.
— Я ведь могу их у тебя отобрать, — почти шёпотом произносит он. — Ты не задумывалась об этом?
Джинни каменеет, смотрит на него расширившимися глазами. А потом лицо её искажается такой злобой, будто в неё вселился десяток демонов.
— Что ты сейчас сказал?
— Что слышала, — тихо и спокойно повторяет Гарри. — У меня огромные связи. Ты не сможешь со мной тягаться.
Он смотрит на неё неотрывно, не моргая. Взгляд зелёных, потемневших от бешенства глаз тяжёлый и злой. Джинни отшатывается, и он выпускает из рук её плечи.
— Я тебя ненавижу, — говорит она в ужасе.
— Не новость. Если ты попытаешься ограничить меня во времени, которое я провожу с детьми, они будут жить со мной. И уже тебе придётся спрашивать у меня разрешения.
— Ты… Да ты чуть не убил Лили. Какой из тебя отец? Ты в своей жизни разобраться не можешь. Ты просто…
Гарри выпрямляется, складывает руки на груди, и я впервые вижу его магическую силу в полном объёме. Она вьётся вокруг него, словно сияющий узор, золотой и ослепительно яркий, охватывает его фигуру невидимым для человеческого глаза пламенем. Делаю ещё шаг к нему. Понимаю, что он на грани, его самоконтроль держится на волоске.
Джинни берёт себя в руки, вся подбирается, словно тигрица перед прыжком. Лицо её красное, глаза сверкают от непролитых слёз. Палочка дрожит в опущенной руке.
— Ты испортил мне всю жизнь. Ты всё сломал, бросил свою семью из-за… да мне даже вслух это произнести стыдно! И ты ещё смеешь мне угрожать? — Ничуть не опасаясь магии, она подходит к нему вплотную. Никто не замечает, как Джеймс берёт за руку сестру и отводит её в сторону от родителей. Альбус подходит к брату и сестре, и они замирают все вместе, словно птенцы в разорённом гнезде. — Зачем тебе дети? Ты станешь следить за их учёбой? Водить Лили в балетную школу? Разбираться с письмами от разъярённых родителей и учителей? Ты на это не способен, Поттер. Тебе дети не нужны. Тебе не нужен никто, только один человек, который давно мёртв. — Она жестоко усмехается, прекрасно видя, как действуют слова на Гарри: у него от боли дрожат руки, которые он тут же сжимает в кулаки. — Подумать только. Мою семью разрушил мёртвый Северус Снейп.
Тишина, которая следует за этими словами, оглушает. Кажется, всё замирает вокруг. Я перевожу взгляд с одного на другую. Они несчастны, потому что довели друг друга до этого.
— Ты понятия не имеешь, о чём говоришь, — роняет Гарри в звенящую тишину.
В лицо его страшно смотреть. За те дни, что наблюдаю за ним, я привык видеть его мягким, спокойным, открытым, улыбчивым. Он как будто был совсем юн. Порывистая душа отражалась во внешности, в жестах, в словах. А сейчас он словно постарел за одно мгновение. Губы сжаты в плотную линию, глаза мёртвые.
— Но мамочка, — тонкий голосок Лили звенит от непролитых слёз, — Северус не умер. Он ангел, и он здесь.
Наверное, если бы в дом вдруг ударила молния, эффект был бы не таким мощным. Ужас, написанный на лице Джеймса Поттера, невозможно описать. Джинни в полном недоумении смотрит на дочь, а Гарри вдруг срывается с места и, не отдавая отчёта в действиях, хватает малышку за плечи.
— Хватит, Лили, — рявкает он со злостью. — Довольно. Это уже не шутки. Прекрати сейчас же.
— Отпусти мою дочь, ты, безумец!
Джинни бросается на Поттера, и её отбрасывает неконтролируемой волной магии назад. Она, споткнувшись о порог, падает на спину. А я делаю резкий выпад ладонью в сторону кухонного шкафа.
Стёкла со звоном разлетаются во все стороны, посуда валится на пол. Раздаётся чудовищный грохот. Разбивается всё: тарелки, чашки, с верхней полки падают кастрюли и сковороды. Пол содрогается под ногами, и весь дом внезапно на мгновение пошатывается, звеня стёклами в рамах.
Я ошеломлённо застываю, а потом понимаю: моя магия вошла в конфликт с магией Поттера, он ведь зачаровал дом от всевозможных опасностей. Но я не впервые взаимодействую с волшебниками, такого никогда ещё не случалось…
Когда небольшое землетрясение заканчивается, в дом внезапно, напугав всех, врывается Марк с палочкой наизготовку. На нём надета аврорская алая мантия, лицо сосредоточено, взгляд мечется по комнате в поисках опасности.
Он обводит глазами жуткий бардак на кухне, разбитый сервант, гору черепков на полу, перепуганных, сжавшихся в комок детей и Гарри, который поднимает с пола Джинни.
— Вставай. — Он протягивает ей руку и бережно подхватывает под локоть. С него словно падает пелена, магия вокруг гаснет. — Ушиблась? Где болит? Давай я наложу заклинание…
— Нет, всё в порядке. — Джинни поднимается на ноги и сразу отстраняется от него. — Я сама.
— Что тут, во имя Мерлина, произошло? — спрашивает Марк в недоумении.
Гарри не отвечает. Он смотрит только на Джинни.
— Что ты решила?
Она бросает взгляд на детей.
— У Лили проснулось волшебство? — невпопад спрашивает она. — В газете было написано…
Гарри качает головой.
— Колдомедики не отметили никакого изменения магического фона. Это была не магия.
— Тогда что?
Джеймс быстро шикает на Лили, которая уже открывает рот, но останавливает её не он. Я быстро подхожу к детям. Ал рассматривает дрожание воздуха, которое неизменно видит при моём приближении, он смотрит поверх головы сестры, ровно туда, где находится моё лицо.
— Маленькая мисс, успокойтесь, — мягко говорю я. — Не нужно пока ничего про меня рассказывать.
Зелёные глаза, точно такие же, как у её отца, полны страданием до дна. У неё дрожат губы, она бесконтрольно тянет ко мне свои ладошки, но потом, опомнившись, отдёргивает. Я очень нежно кладу ей свои большие руки на плечи.
— Вы ни в чём не виноваты. Всё хорошо. Не плачьте.
Она едва заметно кивает, но кристальные слезинки всё-таки катятся по нежным щекам. Альбус обнимает её за плечи.
— Не знаю, — тем временем говорит Гарри, — она… просто воспарила над водой, словно её кто-то вынес на руках. Это было так странно.
Джинни хмурится и кусает губу. Гарри осторожно берёт её за руку, и на этот раз она руку не отнимает. В этот момент я чувствую волну тупой боли, толкающую меня в спину. Боли преданной и покинутой жены. Матери, которая боится потерять своих детей. А ещё чувствую любовь, ведь нет ненависти без любви.
— Не забирай их, Джин.
— Это ты хочешь забрать, — агрессивно говорит она, но напряжение уже схлынуло, и её слова не достигают цели.
— Ты знаешь, что я сказал это от злости. Я никогда так не поступлю.
Она некоторое время смотрит на него, как будто в глазах у неё осколки стекла, а потом качает головой.
— Хорошо. Ещё сколько? Три недели? — Он кивает. — Следи за ними, ладно?
— Не беспокойся. Такого больше не будет. Прости меня.
Она резко выдёргивает руку из его руки и запахивает на себе халат. Потом целует Лили, треплет по щеке Альбуса, касается плеча Джеймса и уходит.
Chapter 6: О «Морском волке», ракушках и о протянутой руке
Chapter Text
Джеймс встаёт на следующее утро и, не позавтракав, тихо покидает дом. Я приподнимаю брови, взглянув на часы: пять утра. Обычно мальчик спит до одиннадцати. Настроившись на ребёнка, я, не мешкая, иду с ним. Выпускать из поля зрения старшего сына Поттера сейчас опасно.
Джеймс быстрым шагом преодолевает расстояние от дома до ближайшей дюны, которая надёжно скрывает его, и тут уже идёт медленнее. В какой-то момент он снимает обувь и ступает по берегу босиком. Волны лижут его ноги, он улыбается.
Я чувствую в этом юном, полном энергии мальчике такую силу духа, такую неуёмную жажду жизни, что во мне самом невольно просыпается нечто… живое. Молодое солнце, ещё не вошедшее в полную силу, облизывает его лицо и голые плечи. На нём майка без рукавов и светлые шорты. Сандалии он держит в руках. Он не выглядит, как человек, просто гуляющий по морскому побережью: слишком тороплив шаг. Он целенаправленно куда-то идёт, и я не представляю, куда именно, пока впереди не показывается пристань и множество рыбацких лодок.
— А, пришёл-таки, — говорит высокий загорелый до бурого оттенка мужик. На нём выцветшая футболка, когда-то бывшая ярко-оранжевой, закатанные до колен штаны и резиновые шлёпки. — Готов, малец?
Джеймс слегка хмурится при таком обращении, но кивает, и мужик показывает ему рукой на большую лодку, на дне которой лежит рыбацкая сеть.
— На рыбалке был хоть? — спрашивает мужик.
Джеймс, сроду не бывавший ни на какой рыбалке, довольно достоверно корчит оскорблённое лицо.
— Конечно. Каждое лето рыбачу. Мне это не в новинку.
Мужик не слишком верит, но больше ничего не говорит.
Ветер хлещет по лицу, обжигая кожу и оставляя на губах привкус соли. Солнце окрашивает море в серебро, но Джеймсу не до красот природы. Они доплывают на лодке до более крупного судна. Рыбацкая шхуна «Морской волк» качается на волнах. На палубе их встречают ещё несколько человек. Ужасно нервничая и стараясь этого не показывать, Джеймс протягивает руку одному, другому, потом осматривается.
Деревянный корпус, когда-то выкрашенный в насыщенный синий цвет, теперь выцветший и потрескавшийся. Местами краска облупилась, обнажилось потемневшее дерево, изъеденное солью и непогодой. Палуба, испещрённая следами брызг и тяжёлых ботинок, покрыта заплатами из разных пород дерева. Рыболовные сети, свёрнутые в небрежные клубки, лежат вдоль бортов, источая резкий запах рыбы и водорослей. Мачта одиноко возвышается, покосившаяся, не сломленная ветрами многих штормов. На ней болтается истрёпанный ветром флаг. «Рисунок дурацкий, — думает Джеймс, — волчья голова в морской фуражке».
В носовой части шхуны виднеется небольшая каюта с мутными от соли и времени стёклами. Над кормой возвышается небольшая рубка. «Морской волк» не отличается ни размерами, ни скоростью. Скромная труженица моря, повидавшая на своём веку немало штормов и хороших уловов.
— Будешь помогать Моррису, — ворчит капитан, — делай всё, что он говорит, да смотри, не балуй. Хлипкий какой.
Джеймс, обидевшись на «хлипкого», крепко стискивает зубы и берётся за работу. Моррис оказывается добродушным матросом, рыбаком в каком-то там поколении, о чём сразу и сообщает.
— Не волнуйся. Лоцман — это мы так нашего капитана зовём — только с виду грозный. Он отлично знает местные воды и умеет безопасно проводить судно через сложные участки. Попали мы как-то в шторм. Думали уже прощаться с жизнью… — пускается Моррис в долгий и пространный рассказ.
Джеймс помогает тянуть сеть, поставленную на рассвете, потом закидывать новую. Занятие, кажущееся таким простым, требует недюжинной силы. Мальчик уже через полчаса чувствует, как каждый мускул его тела забивается, но упорно продолжает работать. Почти сразу руки покрываются мозолями, спина ноет, но он с завидным упорством кидается в работу.
Старый капитан, суровый мужчина с изборождённым морщинами лицом, наблюдает за ним, прищурившись. Джеймс старается не отставать от других матросов. Он тянет, перевязывает, закидывает, поднимает. И снова, и снова. После нескольких часов тяжёлой работы, когда последнюю сеть наконец-то подняли на борт, Джеймс, обессиленный, садится возле мачты. Моррис подаёт ему флягу с водой. В сети плещется серебристая масса рыбы.
— Неплохо, малец, — говорит капитан, — ещё пару таких выходов, и ты, глядишь, станешь прославленным морским волком!
Матросы гогочут, Моррис от души хлопает его по плечу, отчего Джеймс чуть не утыкается носом во флягу. Лицо мальчика заливается румянцем ещё больше. Шея его пунцовая от загара, руки — тоже обгорели, заплатили ему совсем мало, но он так горд собой, что его распирает радостью.
«Если бы я мог пользоваться магией, я бы вам показал рыбалку», — думает он с усмешкой.
Когда я понимаю, зачем он нанялся матросом на рыбацкое судно, только улыбаюсь. Этого следовало ожидать.
Мария.
Джеймс с гордостью рассматривает заработанные купюры, представляя, как они вместе с девушкой будут сидеть за столиком в кафе, слушать музыку и смеяться. Она, конечно, будет смотреть на него, как на героя. Он широким жестом закажет всё, что ей захочется, а потом они будут гулять по морскому берегу, и, быть может, она возьмёт его за руку, или позволит себя обнять за плечи. А потом…
Когда в воображении мальчика я читаю мечты о первом поцелуе, мне становится забавно. Гарри чего только не думает о сыне: пропадает неизвестно где целый день, свяжется с плохой компанией, начнёт употреблять наркотики… А Джеймс всего лишь впервые влюбился. Такой бунтарь, непокорный и своенравный, на самом деле оказался невинной ромашкой.
Домой он не торопится, доходит до прибрежного кафе и ждёт её у входа. Мария машет ему из-за стойки, она в лёгком платье цвета морской волны. Искоса я смотрю на мальчика, тот вытирает вспотевшие ладони о шорты.
— Привет, Джеймс! — Её голос звонок и чист. — Ты чего так рано? Мы договаривались увидеться вечером.
— Привет... — Он рассматривает её так жадно, но тут же отводит глаза, спохватившись. — Здорово выглядишь, тебе идёт это платье.
Девушка заправляет за ухо длинную прядь, и щёки её слегка розовеют. Они медленно идут по кромке прибоя, позволяя тёплым волнам ласкать их ступни. Разговор льётся легко и непринуждённо. Они говорят обо всем и ни о чем: о школе, о любимых книгах, о мечтах на будущее. Джеймс, воспитанный волшебниками, по большей части слушает и чувствует, как напряжение постепенно отступает, а сердце наполняется спокойствием, теплом и надеждой.
— Что ты любишь больше всего? — спрашивает он вдруг.
— Закат, — улыбается Мария. — Он каждый раз разный, каждый день немного другой, чем прежде. — Она внимательно окидывает парня взглядом, и тот сразу тушуется, засовывает руки в карманы и смущённо проговаривает:
— Э-э-э, я только что с работы. От меня, наверное, рыбой несёт.
— Нет, всё в порядке, — спешит заверить его Мария. Лицо её такое нежное и очаровательное, что не засмотреться невозможно. — Мой дед был рыбаком. Каждое лето я приезжала на каникулы сюда, жила с отцом и дедом. Он днём приходил домой, и от него пахло так же. Запах детства. Меня не раздражает.
Джеймс хмыкает.
— Через неделю в клубе дискотека. Давай сходим? Тут недалеко, чуть дальше по побережью, — внезапно говорит Мария.
— На дискотеку… — тянет Джеймс с сомнением, но, глядя в её светлые блестящие глаза, страхи и сомнения блёкнут. — Почему бы и нет. Давай. А сегодня вечером погуляем? Ты заканчиваешь как обычно, в шесть?
— Да, потом меня сменяет отец.
— Я зайду за тобой. И можно, всё-таки приму душ?
Она смеётся. Потом они медленно возвращаются к кафе, и девушка уходит. Но на мгновение касается кончиками пальцев ладони Джеймса, и сердце его пропускает удар.
Я фыркаю. Ох уж эти подростки.
Дома Лили возится с Флаффи. Она тайно провела пса на кухню и угощает его кусками курицы, которую вчера запекли на ужин.
— Кушай, хороший, — приговаривает девочка. Она стоит на табуретке возле раскрытой дверки холодильника. Её пальцы измазаны жиром. Роскошные медные косы лежат на плечах, непокорные короткие волосики выбиваются из причёски и забавно топорщатся в разные стороны вокруг нежного лица.
Подхожу к ней незаметно, нагибаюсь и спрашиваю тихонько:
— Чем это вы заняты, маленькая мисс?
Она вздрагивает, оборачивается и ожидаемо пошатывается на стуле. Я подхватываю маленький локоток.
— Ангел, мы с Флаффи решили перекусить, — бодро сообщает девочка и хватается за меня блестящими ладошками, пока я снимаю её с табуретки.
— Вымойте руки, мисс. Леди должна быть опрятной.
Девочка тут же бежит выполнять сказанное, и я слегка удивляюсь. Лили может повредничать перед сном, не послушаться отца и, конечно, братьев, но мои просьбы выполняет моментально. Осторожно касаюсь души девочки, и меня охватывает сильная, тёплая волна детских эмоций: чистая и искренняя. С удивлением понимаю, что меня любят и не хотят огорчать.
— Ангел, а ты правда Северус Снейп?
— Почему ты спрашиваешь? — Я вытираю её ручонки полотенцем. — Разве имеет значение имя, которое теперь мне не принадлежит?
Она смотрит на меня очень серьёзно, потом отнимает ладошки и разглаживает юбку своего платья. Сегодня оно ярко-голубое, как летнее высокое, чистое небо.
— Потому что если ты действительно Северус Снейп, ты мог бы снова спасти папу.
Внимательно разглядываю нежное личико Лили и склонённую головку, потом нагибаюсь, чтобы поймать её взгляд.
— Разве ему грозит опасность?
Когда девочка поднимает на меня глаза, они полны печали. Флаффи, до этого весело скакавший вокруг, вдруг останавливается и ложится ей в ноги, кладёт мохнатую голову на резиновые тапочки, в которых она бегает целыми днями по улице.
— Папуля с нами играет, читает мне книжки, мы купаемся в море, строим замки из песка, но, когда он остаётся один и думает, что на него никто не смотрит, он становится очень грустным. — Лили присаживается на корточки рядом с Флаффи и гладит его по голове. — Я спрашивала его, почему, но он ничего не ответил. Может быть, это мы виноваты. Ведь мы вечно мешаем ему, так мама говорит. Он то работает, то к нам приходит дядя Марк. У папочки полно дел и без нас.
Собака мелкими ползками приближается ко мне. Теперь на ногах Лили она лежит брюхом, а серой мордой тычется мне в стопы. Я опускаюсь на пол и тоже глажу собаку. От моей ласки она тут же заваливается на бок и подставляет пятнистый живот.
— Люди иногда грустят. Необходимо испытывать разные эмоции. Для того, чтобы в полной мере осознать радость, человек должен хоть раз в жизни погрустить.
Девочка обдумывает мои слова, чуть хмурится, но потом качает головой:
— Нет. Папа не испытывает больше радости. Он смеётся и улыбается, но не радуется. Я боюсь, что он может заболеть. Как Фея Динь-Динь из Питера Пэна. Она почти умерла, когда поняла, что её никто не любит и в неё никто не верит. — Глаза Лили стремительно наполняются слезами. — Я не хочу, чтобы папочка умер.
Могу только прикоснуться к её пушистым, лёгким волосам. Ангелы успокаивают одним прикосновением, но по-настоящему люди способны справиться с чувствами лишь сами.
— А почему ты сказала, что я могу спасти его снова? — Смотрю на Лили, а она долго молчит. Потом говорит поразительно серьёзно:
— Потому что он рассказывал, как ты спас его в детстве. И потом ещё раз. Он говорил, что ты очень смелый и сильный. А сильный должен защищать и спасать. — Девочка молитвенно складывает ладошки перед собой и тихо просит: — Пожалуйста, ангел, сделай так, чтобы папуля больше не грустил.
Я думаю об этом коротком разговоре весь день. Рассуждаю о том, способен ли хоть кто-то вытащить человека из горя, которое сделалось привычным? С которым он уже сросся, как с собственной кожей? И оно стало его постоянным спутником? Кому под силу избавить от чувства давящей пустоты?
Человек, который всю жизнь носил тяжёлый, но знакомый груз, научился балансировать, находить опору, даже двигаться с этим грузом, привыкает. А что, если его снять? Какова будет его «новая» кожа? Как он будет ощущать себя без этой привычной тяжести? Может быть, груз придавал ему вес, значимость, позволял осознать себя и мир вокруг?
В этом кроется одна из главных ловушек. Мрачное осознание мира может стать якорем, который держит лишь на дне. Пережитое горе может служить своеобразной защитой от ещё более глубокого одиночества, от страха перед неизвестностью, от неспособности справиться с пустотой. Ведь там, под слоем привычной боли, могут таиться усталость, желание иной жизни, но полное непонимание как к ней прийти?
Нельзя просто взять и отрезать кусок души. Не существует заклинания или зелья, способного мгновенно помочь и вытащить Поттера из той ямы, куда он сам себя загнал.
Это не про мгновенное исцеление, не про ампутацию боли. Это про создание пространства, где горе перестаёт быть единственной жизненной опорой. Это про показ других путей, других красок мира, которые ещё видны даже сквозь пелену скорби. Это про терпение, понимание и безоговорочное присутствие.
И здесь, увы, я не властен. Любое моё прикосновение будет кратковременным и никак не поможет. С таким может справиться лишь близкий, любящий человек, который у Гарри имеется.
Марк появляется в белом доме почти каждый день. Он чуть младше Поттера, красивый, стройный, умный и удивительно преданный. Он неплохо ладит с Лили и Алом. Джеймс его игнорирует, впрочем, как и отца: Гарри удостаивался только междометий и пренебрежительных кивков. Как только Марк пытался заговорить с Джеймсом, тот кривился, не стесняясь, и тут же уходил подальше. В конце концов, попытки сблизиться были оставлены.
Каждый раз при появлении Марка я читаю в нём искреннюю радость от встречи с детьми, от того, что он видит Гарри, что он просто здесь, рядом с этой семьёй. Я вижу его любовь. Он относится к Поттеру с трепетом, хоть и старается не показывать этого.
Однако сам Поттер этих чувств совсем не разделяет. Сам того не осознавая, он постоянно обижает холодностью. Они были вместе достаточно долго, чтобы Марк мог смириться с этим, но разве это возможно?
Гарри рад видеть своего любовника не всегда и чаще хмурится, смотря на него, чем улыбается.
Вечером Марк появляется на пороге в своей обычной шумной манере. Сносит подставку для зонтов, поднимает её, ставит обратно, смеётся, подхватывает на руки развеселившуюся Лили, громко спрашивает, что нового нарисовал Альбус.
Всё это время Гарри сидит за ноутбуком и сосредоточенно печатает. Он даже не поднимает глаз на гостя, будто его и вовсе нет. Марк к такому приёму привычен. Он подходит, легко касается губами щеки Поттера и плюхается на диван.
— Ну что, — спрашивает он жизнерадостно, — чем вы сегодня занимались? Дурака валяли целый день опять?
— А что ещё делать? У нас каникулы. — Альбус валяется на ковре и щёлкает пультом, переключая каналы на телевизоре. Они с Лили уже успели трижды поругаться, что смотреть. Лили хотела мультики, а её брат — гонки. В итоге оба остались недовольны и смотрели какой-то фильм про ядовитых лягушек, пока Алу не надоело, и он не стал искать что-нибудь поинтереснее.
Я присаживаюсь на подоконник и наблюдаю, как Поттер хмурится в экран. Текут минуты, на телевизоре найден интересный фильм, Марк смотрит его вместе с детьми, а Гарри всё работает и работает. Его пальцы проворно бегают по клавиатуре, и за всё время он ни разу не поднимает взгляда на своего любовника.
Внимательно присматриваюсь к Марку. Внешне спокойный и весёлый, он объят напряжением. Тревожные пальцы никак не могут перестать теребить заусенцы, не желает останавливаться и отстукивающая неровный ритм нога. Он улыбается, когда на экране происходит что-то забавное, с интересом выслушивает болтовню Лили, но мыслями он далеко, и только поздним вечером я понимаю, почему.
Сонных детей Марк отправляет спать. Гарри закрывает ноутбук и потягивается.
— Закончил? — спрашивает Марк, спускаясь с лестницы.
Он медленно подходит к Гарри и обнимает его сзади за плечи. Поттер ласку принимает, но ненадолго. Он деликатно высвобождается и сухо извиняется за то, что не уделил ему внимания сразу, как только тот пришёл.
— У тебя есть шанс искупить свою вину, — улыбается Марк и снова ловит Гарри в объятия, а потом зарывается носом ему в волосы. — Я соскучился.
— Мы виделись позавчера.
— Всё равно соскучился.
Наблюдаю за обнимающимися мужчинами из кресла и вдруг ощущаю, как растёт и множится боль внутри души Марка. Мне кажется, я даже слышу звук падения той самой последней капли, переполнившей чашу. Присматриваюсь повнимательнее: руки чуть дрожат, и выражение в глазах такое, будто он уже всё решил или близок к этому. Перевожу взгляд на Гарри. Неужели он ничего не чувствует?
Поттер поводит плечами, вынуждая любовника отодвинуться.
— Я очень устал. Чёртова статья. Редактор вернул вчера, сказал переделать. Весь вечер сижу.
Марк отходит от Гарри, молча открывает шкафчик на кухне и достаёт бутылку виски. Поттер молча смотрит, как он наливает себе немного в стакан, одним глотком выпивает и, не глядя на Гарри, направляется к двери.
— Ты куда?
Уже на пороге Марк оборачивается.
— Пойдём, прогуляемся.
Над головой раскинулся бархатный бездонный купол, усыпанный мириадами сверкающих звёзд. Они кажутся такими близкими, будто можно протянуть руку и коснуться их холодного, алмазного сияния. Серп луны разливает по морю тусклое серебро, оно рассеивается по беспокойным волнам и тонкими дорожками уходит к горизонту. Песок под ногами мерцает миллионами крошечных огоньков, отражая небесное свечение.
Море под покровом ночи преображается. Оно не ревёт и не бушует, а дышит ровно и спокойно. Волны неспешно накатывают на берег. Каждый всплеск — ласковый шёпот, который тут же растворяется в ночной тишине. Пена, сбегая по мокрому песку, оставляет на нем призрачные, мерцающие узоры, которые тут же стираются следующим приливом.
Марк и Гарри отходят от дома совсем недалеко, к морю. Некоторое время просто молчат, стоят рядом, чуть задевая друг друга плечами, потом Марк неожиданно оборачивается. Под его ногами с тихим звуком шуршат мелкие ракушки, вынесенные морем на мокрый песок.
— Сколько лет мы вместе? — спрашивает негромко Марк. — Даже сказать страшно. Я помню Ала младенцем, а мы уже тогда были в отношениях. И всё это время я тебя жду. — Он отворачивается от дёрнувшегося было Поттера, который попытался что-то ответить, но не успел. Вытаскивает из кармана пачку сигарет, зажигалку. Красивое лицо его освещается оранжевым огоньком. — Когда я заканчивал Ильверморни, до нас долетали слухи о том, что творится за океаном. Имя Гарри Поттера было на слуху в Америке. Вскоре стали всплывать и другие имена героев войны. Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Альбус Дамблдор, Северус Снейп... Множество имён. Они фигурировали в лекциях по новейшей истории, а потом, как ты знаешь, я перевёлся в Британию и встретил главное действующее лицо.
— Да, я помню, как в первое время ты смотрел на меня, как на восьмое чудо света.
— В конечном итоге, это и стало решающим фактором в наших отношениях.
— Сопротивляться твоему… восхищению было трудно, — замечает Поттер с теплом.
— Та ночь была одной из самых прекрасных в моей жизни, — с улыбкой произносит Марк. Ему вообще легко даются признания. Он хорошо подбирает слова, чтобы сразить наповал своей искренностью. Бывают люди, как раскрытые книги, не боящиеся того, что им плюнут в распахнутую душу. — Наша первая ночь. Ты помнишь её?
— Конечно.
Они некоторое время молчат. Марк курит, Гарри бродит вокруг в тёплой воде. Я стою поодаль, слушаю волны и наблюдаю, как мерцают звёзды вдалеке.
— Я всё ждал, когда же ты хоть чуть-чуть обратишь на меня внимание, — ровно говорит Марк после долгой паузы. — Через год я думал: рано, через два отнёсся с пониманием, особенно, когда узнал твою печальную историю, через три стал привыкать любить урывками, а потом просто перестал надеяться. Ты меня всего измотал, Гарри. Я не могу больше жить в кредит, мне тридцать лет, я бы хотел что-то конкретного в своей личной жизни.
— Я не обманывал тебя никогда, — так же ровно возражает Гарри. — Ты всё знал про меня с самого начала. Я предупреждал, что со мной может быть непросто строить отношения.
— Да. — Марк снова легко соглашается. — Я это ценю по сей день, ты ничего мне не обещал. Однако мне хотелось бы взаимности, хоть малую толику. Я думаю, ты вообще никого не способен полюбить, кроме своего Северуса.
И вот теперь лицо Гарри меняется. Он оживает: веки смыкаются на мгновение, он вздрагивает едва заметно, широкие плечи расправляются, тёмные сейчас глаза становятся выразительными и очень красивыми. Марк наблюдает за этим преображением, отстранённо посасывая сигарету.
— Тебе достаточно лишь его имени, и ты уже жив. — Он выбрасывает окурок в белые ракушки и глубоко втаптывает его. — Ты несёшь эту боль, как острое копьё: гордо, с чувством глубочайшего долга. И не дай Мерлин попасться тебе на пути: тут же проткнёшь насквозь. Ты мучаешься со вкусом, с мазохистским удовольствием, ты уже привык жить в аду, и теперь для тебя там уже не горячо.
Марк делает шаг вперёд, берёт безвольную руку поражённого его монологом Поттера и подносит её к своим губам, целует, прижимает ладонью к груди. Гарри пытается сделать шаг, сократить расстояние между ними, обнять его, но тот не позволяет.
— Я люблю тебя, — говорит Марк, — но больше не могу соперничать за твоё сердце с мёртвым человеком. Он выигрывает. Он идеален, правда же? Его можно придумать себе любым.
— Ты ошибаешься.
— В чём? Твои чувства, Гарри, произрастают из детства. Что ты на самом деле знаешь о Снейпе? Твоя любовь — набор домыслов и фантазий, прости меня за эти слова, но это так. Я не готов больше вести заведомо проигрышную борьбу. Я живой, я дышу, я рядом. Люблю тебя. Чёрт, я бы за тебя жизнь отдал. Но тебе этого всего не надо: ни жизни, ни любви моей. Тебе нужен только Северус Снейп, недостижимый и идеальный.
В короткой паузе Поттер щурится, как делают это люди, внимательно слушающие сомнительную информацию, но ничего не говорит.
— Ты собственными руками разрушил свою семью, — безжалостно и печально продолжает Марк, выпуская руку Гарри. — В некоторой степени сделал несчастными своих детей, меня. А самое ужасное, ты тоже несчастен и тонешь всё сильнее. Я больше не нахожу в себе сил тебя спасать. Потому что спасти себя, Гарри, можешь только ты сам.
Поттер смотрит на него с угрюмым выражением лица. Молчание между ними висит прощальное, тяжёлое. Чувство вины, которое испытывает в этот момент Гарри, как занесённый над его головой топор. Неизвестно, чего страшится он больше: жить дальше или уж покончить со всем одним точным и сильным движением.
Я вижу, что он готов повернуть назад, успокоить своего любовника, обнять его, сказать ему, что всё это ерунда, и им хорошо вместе. Все эти слова уже крутятся у него на языке, но тут из темноты доносятся тихие шаги, и в лунном свете появляется тонкая мальчишеская фигура.
— Джеймс.
Гарри мрачнел день ото дня. Поведение Джеймса становилось всё более вызывающим. Когда вчера он пришёл в полночь, между отцом и сыном произошёл серьёзный разговор, который не привёл ни к чему хорошему. Оба только сильнее отдалились друг от друга.
Мальчик доходит до отца, не удостаивает Марка даже взгляда, несмотря на то, что тот дружелюбно с ним поздоровался, останавливается, засунув руки в карманы, и насмешливо смотрит, с прищуром, очень раздражающе.
— Начало первого, — говорит Гарри мрачно, — сегодня ты пришёл ещё позже, чем вчера.
Я стою рядом, чувствую, как клокочет в нём раздражение и злость.
— Кажется, я просил тебя приходить домой в десять.
Джеймс пожимает плечами и пытается обойти его, но отец быстро заступает ему дорогу.
— Кажется, я дал понять, что мне плевать, — говорит Джеймс, глядя ему прямо в глаза.
Мгновение Гарри настолько поражён, что не может вымолвить ни слова, а потом его лицо багровеет.
— Что ты сказал?
В первую секунду Джеймс тушуется, но потом щёки его наливаются румянцем, глаза светятся самой настоящей ненавистью. Мальчику почти пятнадцать.
— Что слышал, — решительно говорит он и делает шаг к дому, но потом останавливается и резко разворачивается. — Ты думаешь, что, вытащив нас в эту дыру раз в год, оплатив курсы музыкальной школы, художественный кружок для Ала и купив Лили кукольный домик, ты сразу становишься прекрасным отцом?
Гарри молча смотрит на него, и в лице его что-то дрожит.
— Джей, прекрати.
Гарри пытается сохранить последние крохи самообладания. Он делает шаг к сыну, но тот выставляет перед собой ладони, и ему приходится остановиться.
— Уйди с дороги, — довольно грубо говорит мальчик, — я хочу спать.
— Джей…
Марк пытается вмешаться, потому что тоже чувствует, как накаляется обстановка. Он даже протягивает руку, чтобы коснуться плеча мальчика, но Джеймс отшатывается от него с отвращением.
— Прокляну. Ещё не хватало, чтобы всякие гомики меня трогали.
— Немедленно извинись!
Гарри хватает сына за плечо, но тот ловко выворачивается.
— Ты оставил маму одну. Ты бросил её.
— Мы с твоей мамой были несчастливы. Мы приняли это решение вместе, понимаешь?
— А почему его пришлось принимать? — совершенно внезапно кричит вдруг Джеймс с искажённым лицом. — А! Потому что ты внезапно решил, что тебе нравится трахать задницы!
Я не успеваю среагировать. Мне следовало сделать хоть что-то, например, толкнуть Поттера в грудь, прочь от мальчика, но я просто стою. Хлёсткая пощёчина обжигает нежную щеку. Голова Джеймса дёргается, и он, прижав руку к пылающей коже, смотрит полными слёз глазами на отца.
— Не смей так разговаривать со мной.
Воздух вокруг электризуется. Вокруг дома взмётывается в воздух песок, но поднявшийся ветер успокаивается мгновенно.
— Моя ориентация никаким образом не связана с тем, что мы с мамой расстались, — твёрдо произносит Гарри. — И Марк ни в чём не виноват. Если ты ещё раз позволишь себе нагрубить ему, или проигнорировать, или ещё каким-то способом выказать неуважение, мы с тобой будем говорить иначе, сын.
— С чего мне уважать твоего любовника? — истерически выкрикивает Джеймс. — Кто он мне? Второй отец? Ты его любишь?
— Если люблю, что дальше? — Голосом Поттера можно заморозить всё побережья деревни Рай, на котором стоит белый дом. — Тебя вообще не должно волновать, кого я люблю. Это не твоё дело.
— Не моё? — Джеймс делает шаг к отцу: лицо искажено, он дрожит с головы до ног. В его глазах плещется многолетняя обида. — А чьё? Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Ты. Ты разбил нашу семью! Лили слишком мала, но она подрастёт и будет думать так же. Альбус слаб, чтобы сказать тебе, какая ты на самом деле задница. Ты бросил нас! Мы тебе больше не нужны!
Джеймс отталкивает отца плечом, бежит к дому, врывается в прихожую, с яростью сбрасывает шлёпки. Гарри следует за ним, что-то кричит, я не слушаю. Мне важно сохранить психику мальчика, который сейчас весь, словно раскрытая рана, кровоточащая и болезненная.
— Джеймс, что ты… Джеймс! — Гарри догоняет сына, когда тот уже выдёргивает нижний ящик письменного стола из направляющих.
Колёсики отлетают в стороны, колдография, где запечатлены Гарри с детьми на фоне чьей-то гостиной, валится на пол.
— Вот это тоже не моё дело?! — истерически спрашивает мальчик.
Лицо Поттера беднеет.
— Откуда…
— Откуда мне известно об этом?! — орёт Джеймс. Наверху хлопает дверь, и слышатся торопливые шаги по лестнице. — Так ты же не скрываешь этого ни хрена! Что, думал, я полный идиот? Да даже Лили знает, кто такой Северус Снейп. Уж про него мы прочитали достаточно и в истории Хогвартса, и просто в учебниках, и в газетах, которые ты так бережно хранишь.
Джеймс вываливает из ящика на пол множество писем. Их много. Запечатанные конверты, с одинаковой подписью и одинаковым адресатом.
— В кого ты там влюблён, пап? В своего преподавателя? Ты поэтому назвал Ала в его честь — потому что не успел и его трахнуть?
— Замолчи… — Гарри, кажется, сейчас лишится сознания. Его щёки серые. — Замолчи сейчас же…
— А то что? — дерзко орёт Джеймс, кривляясь. — Ударишь меня ещё раз?
В дверях кабинета появляется Марк, из-за спины которого выглядывают Альбус и Лили. Гарри видит их, и это слегка его отрезвляет.
— Джейми, остановись, — говорит он, выставив перед собой ладони, — давай поговорим. Всё обсудим, я тебе всё объясню.
— Нечего объяснять! — кричит Джеймс так громко, что Лили вздрагивает.
— Не пугай сестру!
— Так, дети, идём наверх. — Марк решительно поднимает на руки малышку и теснит в коридор Альбуса. — Гарри, тебе нужна помощь? — спрашивает он, и это становится последней каплей.
Джеймс, растеряв последнее самообладание, что если мочи орёт:
— Да! Помоги ему, помоги, Марк. Ты ведь только и можешь, что семьи разрушать. — Мальчик круто разворачивается к отцу, который уже поднимает палочку для успокоительного заклинания. — Ты хоть знаешь, что после твоего ухода она плакала целый год? Год, пап! Целый год мама рыдала каждую ночь, и я ничего не мог с этим сделать! Лежал в своей кровати и слушал через стенку, как она плачет. Да будь ты проклят за это!
Гарри застывает с поднятой палочкой. Джеймс рьяно вытирает выступившие слёзы.
— О, ты решил меня заколдовать? Давай, что применишь, знаменитый Гарри Поттер? Ты хоть раз подумал, каково нам жить с твоей славой? Каково нести её над собой, как флаг?! Все учителя ждут от меня и Ала чего-то невероятного, мы не имеем ни единого права на ошибку, потому что мы — сыновья героя. Я тебя ненавижу. Ненавижу! И я ненавижу, что я — твой сын.
С этими словами Джеймс вдруг исчезает. Марк выхватывает палочку из кожаного наруча.
— Спокойно. Интуитивное аппарирование.
Гарри бросает на него испуганный взгляд.
— Я найду его, не беспокойся.
— А если…
— Не беспокойся, — с нажимом повторяет Марк, — его не расщепило, иначе мы бы уже этом знали. След я уловил. Я найду твоего сына. Останься с детьми.
Он ободряюще улыбается малышке Лили и аппарирует. Гарри остаётся стоять посреди кабинета. Под его ногами валяются нераспечатанные письма.
Хлоп! Все подпрыгивают, включая меня. Посреди комнаты материализуется конверт с печатью министерства магии. Ал косится на застывшего посреди комнаты отца, потом нерешительно берёт конверт в руки.
— Можно вскрыть, пап?
Гарри кивает автоматически, я понимаю, что мыслями он далеко. Он неопределённо смотрит в пространство и не замечает, что Лили стоит в длинной ночной сорочке в дверях, цепляясь за косяк, и чуть не плачет. У меня возникает стойкое желание дать ему хорошего пинка.
— «Уведомляем вас о том, что в вашем доме было совершено колдовство несовершеннолетним. Джеймсу Сириусу Поттеру, студенту пятого курса школы чародейства и волшебства Хогвартс, вынесено предупреждение. Напоминаем, что творение волшебства несовершеннолетними карается исключением из школы». Пап?
— Джеймса поругали, да? — тонко спрашивает Лили, и на неё, наконец, обращают внимание. Ал берёт её на руки.
— Да, но это не страшно, Лилс, — говорит он мягко, поглядывая на отца. Тот стоит, сгорбившись и тяжело оперевшись на стол рукой. — Идём, я дочитаю тебе Питера Пэна.
На секунду он задерживается в дверях.
— Пап? Всё хорошо?
Гарри кивает, не оборачиваясь, и я снова испытываю острое раздражение. Хочется материализоваться прямо перед ним, встряхнуть его за плечи и вывести из ступора. Альбус, секунду потоптавшись на пороге, уходит.
Гарри медленно опускается на колени и долго стоит так, среди рассыпанных конвертов. Я застываю рядом.
В его лице только меловая бледность. В душе такое смятение, что я сперва ничего не могу понять, а потом вздрагиваю. Его словно засасывает в чёрную дыру, он на краю такой бездонной пропасти, что протянуть руку страшно — вдруг упадёт.
«Хватайся…»
Гарри медленно поднимает первый попавшийся конверт. Мельком просматриваю дату написания: 2 мая 1999 года. Он медленно распечатывает письмо. Восковая печать взламывается легко и быстро, желтоватый пергамент, исписанный неравномерно яркими чернилами, дрожит у него в пальцах. Я сажусь рядом на пол и смотрю из-за его плеча.
«Ровно год, Северус.
Тебя нет уже год. Как странно, ты умер, а у меня скоро родится ребёнок. Всё изменилось так быстро.
Ты никогда бы не поинтересовался моей жизнью после войны, я знаю, но всё равно расскажу.
У меня всё сносно. Джинни не хочет выходить замуж беременной. Говорит, что будет выглядеть, как слон в балетной пачке, а Молли настаивает, что нужно скрепить брак до родов. Я не согласен на магическое бракосочетание. Мы даже немного повздорили по этому поводу с мистером Уизли. Традиция у них в семье, но не у меня. Я даже не знаю, были ли мои родители женаты по магическим законам. Во всяком случае, я проводить ритуал не собираюсь. Достаточно уже скандала на почве беременности: я думал, меня разорвут на части. Каждый представитель мужского пола Уизли оторвёт по кусочку за поруганную невинность Джинни.
Колдомедик сказал, что это будет мальчик. Мне едва девятнадцать, и я отец. Надеюсь, мы справимся…
Тебя нет год.
Мне больно всё так же»
— Я больше не могу.
Тихо, почти без голоса. Я мгновенно понимаю: всё. Больше, правда, не может.
— Северус, сделай уже что-нибудь.
Его пальцы сминают пергамент, он весь скрючивается, становится некрасивым и маленьким. Жалким. Прячет лицо в мятой бумаге, как будто хочет провалиться в прошлое, исчезнуть и больше не появляться. Спина вздрагивает несколько раз, но, когда он поднимает голову, глаза сухие, стальные, безжизненные.
— Северус, если ты слышишь…
И я протягиваю руку.
Chapter 7: О нём и о себе
Chapter Text
Это похоже на калейдоскоп. Плавно соединяющиеся, перетекающие друг в друга узоры-воспоминания накрывают меня, как морской прибой. Вечно усталая мать, деспот отец, нищее детство. Лили Эванс, Хогвартс, Поттер, Блэк, Волдеморт. Метка. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Смерть.
Вот тут меня скручивает так, что я едва стою на ногах. Вид собственного безжизненного тела поражает почище Авады. Смотрю на себя, распростёртого в луже крови, с остекленевшими глазами и чувствую, как леденею от ужаса.
Но дальше картинка быстро меняется.
Полутёмный коридор. Мигающие лампы. Рыжие волосы по полу. Крик ребёнка. Меня словно бьют под дых. Я растворяюсь и исчезаю, меня больше нет. Я превращаюсь в слабую, крошечную пылинку, путешествующую по огромным волнам собственной памяти. Десять бессмысленных лет, наполненных болью и выживанием, десять лет, когда я думал, что лучше умереть, чем жить вот так, с ощущением постоянной вины, которую невозможно искупить.
И вот он. Моё спасение: Гарри Поттер. Щуплый подросток с восхищёнными глазами. Её сын…
Как я его ненавидел: за то, что его отцом был не я, за то, что его отцом был мой враг. За его зелёные глаза, каждый раз напоминающие мне о роковой ошибке. Через них на меня всегда смотрела Лили, и становилось так больно, так невыносимо тошно, что лучше кричать и бесноваться, чем признать собственную слабость.
Главную слабость.
Я вспоминаю всё: Квирелла, чувство постоянного страха за мальчишку, мои жалкие попытки отдать долги тем, кому это уже было не нужно. Вся моя жизнь — сосредоточение попыток. «Я пытался» — главная моя мантра.
— И не смог.
Годы мелькают стремительными картинками. Всего слишком много: звуков, красок, эмоций. Я задыхаюсь без лёгких, у меня почти останавливается несуществующее сердце, ударов которого я не чувствую уже много лет.
«Северус! Сделай что-нибудь, Северус!»
— Что? — спрашиваю, почти не осознавая происходящего. — Что сделать ещё для тебя, Поттер?
Возвращение Волдеморта, я на коленях перед высокой, закутанной в чёрный балахон, отвратительной фигурой. «Северусссс». Чёрная рука Дамблдора, младший Малфой, Непреложный обет, последний год жизни…
Память возвращается, сметая все барьеры, все чувства. Всё потом нужно будет обдумать, это мощное, огромное знание, которое переполняет меня. В меня словно разом влили бочку воды. Сознание чуть не лопается от хлынувшего потока пережитого.
Множество ничего не значащих для меня лиц, искажённых невыносимой болью. Пытки, крики, десятки безликих людей, которых я не в силах спасти. Я вспоминаю их всех, одного за другим, как чудовищные бусины нанизываю на нить памяти эти безликие фигуры.
И ненависть. Жгучая, как самый отвратительный яд, я тону в ней, ухожу с головой. Она становится образом моей жизни, то, с чем я срастаюсь намертво, то, на что опираюсь многие годы.
Я вижу себя со стороны: мрачного, замкнутого, нелюдимого человека, со своеобразным чувством юмора, неприятного для всех, саркастичного и жестокого, удел которого — выполнить свой долг. Что будет дальше с телом и душой, никому не интересно. Потому что нет никого, кому бы был при жизни интересен я сам.
А потом в лавину моих воспоминаний красными нитями вплетаются чужие.
«Когда это случилось? Во время окклюменции? Позже? Раньше? Где точка соприкосновения? Когда, чёрт возьми, он осознал, что любит? И кого он любит?! Что это за больная, неправильная любовь к человеку, который только обижает?»
Я вижу его мальчиком, я вижу его юношей, которым успел запомнить, я вижу его уставшим, грязным, в абсолютном изнеможении опускающим руку с двумя волшебными палочками, а напротив него лежит тело Волдеморта, сражённого своим же проклятьем. «Он победил. Смог!»
Я вижу его старше, таким, каким не мог видеть. Картинки сменяют друг друга, как в бешеном круговороте.
Восхищённо распахнутые глаза. Ему хочется смотреть во все стороны сразу. Он семенит в толпе первокурсников, на нём мятая мантия, небрежно наброшенная на плечи. Он крутит головой, рассматривает Большой зал. Его глазами я вижу и себя, но пока эта чёрная фигура за преподавательским столом не имеет для него никакого значения. Всё начинается позже. Всего день спустя профессор Снейп задаст ему свой первый вопрос, и покатится колесо судьбы, завертятся шестерёнки, которые в конечном итоге принесут его в тёмную комнату, в белый дом на побережье моря.
«Поттер! Что будет, если смешать измельчённый корень асфоделя с настойкой полыни?»
Он поднимает глаза, и я вдруг понимаю, как случилось его помешательство. Как произошло, что ненависть — глубокая, мне казалось, абсолютная, взлелеянная годами взаимной неприязни — переродилась в любовь.
Вижу одиннадцатилетнего мальчика, который смотрит на меня другого широко раскрытыми глазами. Он снова одет слегка небрежно, как привыкают одеваться никому не нужные дети. Воротник рубашки перекошен, мантия мятая по краю, неопрятная, гриффиндорский галстук висит слабым узлом. На его носу ужасные круглые очки, во взрослом возрасте Поттер их уже не носит. Под рукой лежит пергамент, где, я вижу, он тщательно записал мою вступительную речь на самом первом уроке зелий. Слово в слово записал. Никогда не знавший любви ребёнок, никому не нужный, привыкший к самостоятельности с самого детства, и его профессор — мрачный, суровый, отчего-то ненавидящий. О причинах этой ненависти Гарри Поттер узнает много позже, когда станет настолько взрослым, чтобы это осознать.
И вот он — тот, чьё одобрение нужно заслужить. Крепкий орешек, да, профессор? Тем сильнее азарт, тем больше хочется именно моего одобрения. Ведь все остальные преподаватели Хогвартса относились к нему с теплом. Сколько раз Минерва шипела на меня на совещаниях: «Оставь мальчика в покое, Северус!» А мальчик тем временем вгрызся в мою ненависть, вцепился в неё, как клещ, в бесплодной, бесполезной попытке её перебороть, заслужить хоть один благосклонный взгляд. И чем больше я не давал желаемого, тем больше росло его разочарование, тем больше он скатывался на ту грань, когда уже почти ненавидишь — себя в том числе, за то, что так беспомощен перед тщетными попытками заслужить любовь.
Я хорошо могу теперь представить, почему он полюбил меня. В какой-то момент взросления его зацикленность достигла того предела, когда можно либо люто возненавидеть, либо отчаянно полюбить. И весы этого хрупкого равновесия качнулись во вторую сторону.
Но что? Что я сделал, чтобы настолько его впечатлить? Ведь мне всегда казалось, между нами не может быть ничего, кроме глухой неприязни. Была общая цель, Поттер был главной частью этой цели. Я — лишь винтик в огромном механизме, созданном Дамблдором против Тёмного Лорда, лишь ещё одна шахматная фигура в безумной партии за жизнь. Мне никогда и в голову не могло прийти, что на меня кто-то посмотрит иначе. Что он посмотрит иначе…
И ответ приходит. В бешеной круговерти чужих воспоминаний вдруг вырисовывается яркая, сияющая картина: Поттер стоит в одиночестве на главной лестнице Хогвартса, опирается локтями о перила. На его лице ссадины, руки исцарапаны: он только что из больничного крыла, ему одиннадцать, и он тихо говорит:
— Снейп спас мне жизнь.
Ему тринадцать. Сидя у озера и вспоминая ужасные события с дементорами на этом самом месте, он говорит:
— Он спас мне жизнь.
Стоя над могилой в полном одиночестве, на фоне уходящих немногочисленных людей в чёрном, явившихся отправить меня в последний путь, он говорит:
— Ты спас меня, Северус. — Ему семнадцать лет.
…Гарри стоит посреди квиддичного поля, мокрый и абсолютно счастливый. В его руке зажат золотой снитч. Его глаза ищут меня на трибунах…
…Сквозь тонкую завесу испарений в классе зелий его лицо почти не видно. За дальней партой он склонился над своим котлом и добавляет ингредиенты наугад. Его взгляд то и дело стреляет в сторону учительского стола, где над пергаментами сижу я. Волосы скрывают моё лицо, я отбрасываю их за плечи, но они скользят вперёд снова и снова, и Поттер прослеживает каждое движение…
…Я вижу его стоящим возле входа в Большой зал в последнее его Рождество в Хогвартсе. Праздничный пир затянулся до глубокого вечера. В замке почти не осталось студентов. Весь ужин он сидел напротив меня и не смел глаз поднять, а сейчас смотрит неотрывно. Я вижу и себя, мрачного, замкнутого. Как поднимаюсь из-за стола, кивком благодарю Дамблдора и остальных коллег за компанию. Меня за рукав хватает изрядно подвыпившая Трелони, что-то говорит, но я с плохо скрываемым раздражением решительно отбираю руку и иду прочь. Как только скрываюсь, Гарри разворачивается и направляется к главной лестнице…
Подобные картины мелькают одна за другой. Их так много, что я не могу поверить в собственную слепоту. Как можно было не заметить столь явный интерес подростка? И кто из нас дурак после этого?
…Он медленно идёт по коридору, его ноги чуть ли не заплетаются, и со стороны можно подумать, что он пьян. Но я чувствую волну резкого отчаяния, расходящуюся от него во все стороны. Поттеру не просто больно, он на грани безумия.
— Не может этого быть, — выговаривает он тихо но отчётливо. — Нет. Только не Северус.
Удар кулаком в стену таков, что слышен хруст. Поттер морщится от боли, встряхивает рукой, но ему мгновенно становится легче. В его голове, среди хаоса мечущихся мыслей, ясно выделяется одна: он убил моих родителей…
«И ты простил?!»
… — Не смей называть меня трусом!
Запах свежей травы и сырой земли. Боль в лице, кровь из носа. Поттер лежит, распластанный после удара заклинанием невидимого хлыста. Меня уже нет, я скрылся в темноте вместе с Драко и остальными Пожирателями, пытаясь добраться до края антиаппарационного барьера. Огонь от хижины Хагрида расписывает всполохами землю. А Гарри Поттеру так больно, что у меня всё рвётся внутри. Он закрывает лицо руками, долго лежит, пережидая душевную бурю. Если бы я знал, о чём он сокрушается, если б знал, что не только смерть Дамблдора оплакивает…
А дальше реальность разбивается осколками ещё раз: я вижу кладбище, и всё вокруг застилает мрак.
…Майская, невероятно холодная ночь разворачивается в небе, пробирает до костей. Ветер гудит в деревьях, гоняет клочья тумана среди могильных плит. Они цепляются за редкие кусты, вянущие цветы в похоронных венках и медленно растворяются в воздухе. Гарри стоит перед одним из многих однотипных надгробий, слегка покачиваясь. В руке он держит початую бутылку огневиски. На нём лишь тонкая хлопковая рубашка и лёгкие брюки, руки покрыты мурашками, но он даже не ёжится. Холодный ветер треплет волосы и одежду. Взгляд его прикован к имени на серой плите.
— Здравствуй, Северус, — хрипит он. Голос его нетвёрд. Язык заплетается, а в голове шумит. — Я пришёл. Уже год, как не виделись…
Между предложениями он делает долгие паузы и как будто собирается с духом перед каждым словом. Ему нужно выговориться. Нужно, чтобы его услышали. Но вокруг нет ни единой души. Кроме меня, который пришёл слишком поздно, чтобы его услышать.
— Знаю, ты бы сейчас скривился и выразил своё глубокое отвращение. Знаменитый Гарри Поттер, пришёл навестить своего нелюбимого профессора. Стал бы язвить и гнать меня. Но тебя нет, и как бы я хотел сейчас быть тем, кого ругают и гонят.
Он делает большой глоток, обжигая горло. Я чувствую, как алкоголь расползается по его телу сеточкой тепла и дарит мгновение облегчения, но огневиски не в силах изгнать скорбь из его сердца, лишь усиливает её. Гарри опускается перед могилой на колени. В его глазах такая звериная тоска, что мне на мгновение делается неловко смотреть на него. Обычно люди испытывают такие сильные чувства в одиночестве.
— Я был таким идиотом, Северус. Думал, что знаю всё о тебе, знаю, какой ты. Ты всегда был рядом. Защищал меня. Спасал. А я… не смог найти в себе силы рассказать, насколько ты стал мне дорог. Как будто это могло тебя как-то спасти.
Гарри обводит кончиками пальцев выбитые буквы на холодном камне. Потом прикладывается к бутылке и надолго замирает, молча смотрит в пространство.
— Я так и не окончил школу, ты бы не удивился, — он усмехается, — министерство приняло меня с распростёртыми объятиями без диплома. Получается, у меня вообще нет образования. А тебя наградили орденом Мерлина посмертно. Ты ведь так хотел его пять лет назад за поимку Сириуса, правда? — От того, как он смеётся, меня обдаёт волной ледяного ужаса. — Ну, теперь он у тебя есть. Лежит в Хогвартсе, в зале наград, в бархатной коробочке, на бордовой подушке. «Северусу Тобиасу Снейпу, за особые заслуги». — Очередной глоток. — Визенгамот, конечно, тебя полностью оправдал. Ты бы видел меня на слушании: я заикался и блеял, говорил что-то о твоей героичности, самоотверженности, а в горле такой ком стоял, что я никак не мог правильно сформулировать. Передо мной лежали пергаменты, я речь писал всю ночь, и забыл о ней. Говорил, как думал. Ты бы со смеху помер, наверное. Хотя… я ни разу не слышал твой смех. И не видел улыбки. Мерлин, как же так? Я ни разу не видел тебя счастливым, ты таким и не был никогда, да? Или был?
Он пьяным жестом запускает пальцы в волосы, взъерошивая их ещё больше, глаза его полны муки, грудь поднимается так часто, что становится даже странно, как от переизбытка кислорода у него не кружится голова?
— Я ничего не знаю о тебе вне класса зелий и Хогвартса. Как ты жил, чем интересовался, как складывалась твоя судьба до моего рождения и после, до поступления в школу? Я могу только гадать по тем крохам, что ты передал мне в омуте памяти. Ты любил маму и никогда не любил меня. Все мои воспоминания о тебе искажены или надуманны. Я так хотел твоего тепла, что сам придумал его себе.
Долгое время Поттер просто сидит, качаясь из стороны в сторону, виски заканчивается, он аккуратно ставит пустую бутылку рядом на землю и обнимает колени.
— Я женился, представляешь? Гермиона говорит, что надо двигаться дальше, и я двинулся. Двинулся так, что скоро стану отцом. Стоял перед алтарём и никак не мог понять, зачем это мне. Старался убедить себя в том, что всё изменится, что вот оно, счастье, а в груди было так пусто. Знаешь, даже когда ты меня ненавидел, мне не было так тяжело, потому что ты был жив. Ненавидь, презирай, только живи…
— Гарри, — слышится за его спиной, и я вижу Грейнджер. Намного более молодую, чем несколько дней назад в камине. Пятнадцать лет обошлись с мисс Грейнджер безжалостно. Она похудела, глаза утратили блеск, волосы, впрочем, остались такими же непокорными и торчали во все стороны. Но сейчас на ней чёрная школьная мантия. Она-то скоро станет выпускницей Хогвартса.
Поттер оборачивается, но глаза его затуманены алкоголем и болью. Он смотрит сквозь подругу некоторое время. Девушка медленно подходит и опускается рядом с ним на траву.
— Идём, Гарри, ты не должен быть здесь.
— А где мне быть? Он умер, его больше нет, а я ничего не успел ему сказать.
Гарри вдруг обхватывает руками холодную плиту надгробия и скороговоркой, словно в помешательстве, шепчет:
— Ты тянешь из меня жизнь, Северус, я не знаю, как мне существовать дальше. Ты не слышишь, — он рвано всхлипывает, — и это вечное моё проклятие. Та редкая книга о зельях и чёрная роза возле твоей двери, и фибула на мантию в виде переплетающихся змей — это всё мои подарки. Не знаю, читал ли ты книгу и что сделал с розой, но изумруды, которыми были инкрустированы змеиные тельца, однозначно блестели у тебя на мантии. Я видел их в последнее рождество и был так счастлив, что ты носишь мою фибулу...
У Грейнджер такое лицо, будто она увидела дементора. Поттера развезло окончательно. Он, по-моему, совсем не понимает, что говорит и где находится.
— Мне так жаль, — слова перерастают в совсем уж безобразное пьяное рыдание. — Так жаль, что я не сказал тебе этого при жизни. Так жаль, что ты никогда не узнаешь, как я любил тебя.
— Гарри! Гарри, пожалуйста. — Грейнджер в ужасе пытается оторвать его от могильной плиты, но он приникает к ней всем телом и касается камня губами.
— Любил, Северус, с… чёрт, я даже не могу сказать, когда всё это началось, как тебе это, а? Что бы ты сказал, чем бы швырнул в меня ещё, если бы знал это?
— Идём, ты расстроен, ты пьян, тебя дома Джинни ждёт, — уговаривает его Грейнджер, обнимая дрожащими руками за плечи. — Она с ума сходит, тебя не было весь день. Ей нельзя волноваться. Гарри!
— Северус, ты не знал, что я думал о тебе, о чём мечтал, если бы ты знал, ты бы меня убил! Господи, лучше бы я… я умер!
Стою рядом, словно меня гвоздями прибили, в абсолютном ошеломлении и ужасе.
Он рыдает, не в силах остановиться, безобразными, пьяными слезами. Плечи его трясутся. Ему восемнадцать лет! Мог ли я подумать когда-то, что над моей могилой кто-то будет так убиваться? Слова вырываются из его груди уже бессмысленными и невнятными. Да это уже и не слова вовсе, а какой-то сплошной звериный вой. Грейнджер безостановочно гладит его по голове и в отчаянии лихорадочно соображает, что делать, чем помочь, как уговорить его хотя бы отпустить надгробие. Наконец, она вынимает палочку и наставляет её на своего друга.
— Гарри Джеймс Поттер, если ты сейчас же не возьмёшь себя в руки…
Глаза у него больные и тёмные, ресницы слиплись от слёз, вид такой, что краше в гроб кладут. Но он вдруг весь обмякает, словно из него выдернули кости, дотрагивается широкой ладонью до могильного камня, замирает ненадолго, потом встаёт со второй попытки. Грейнджер крепко держит его за предплечье и готовится к аппарации. Гарри размашистым движением стирает слёзы с лица, и они исчезают…
Дальше.
…Гарри держит на руках младенца, и лицо у него такое счастливое. Вот он несётся по коридору Министерства в алой аврорской мантии, а вот незнакомый мне дом с маленьким садом и цветущей яблоней. В дальней комнате стоит колыбель, рядом на диване прикорнула рыжеволосая девушка, совсем молодая, измученная. В кроватке ворочается ребёнок. Крохотный, завёрнутый в белую пелёнку. Он беспокойно возится, личико его сморщивается, и комнату оглашает пронзительный плач.
Девушка просыпается, медленно садится на диване, трёт заспанные глаза. В измождённом лице я узнаю младшую Уизли. Она явно нездорова. На её щеках горит яркий румянец, движения скованные, неловкие, так двигаются люди, которым слишком больно.
Дверь в детскую тихонько открывается, и входит Гарри, такой же встрёпанный, сонный, в пижамных штанах и растянутой футболке.
— Джин, ты чего здесь? Я же сказал: встану. Иди спать.
Девушка наклоняется над кроваткой, но тут же охает и сгибается пополам. На пол капает кровь. Гарри подбегает к ней, поддерживает за локоть.
— Иди ляг, — говорит он почти в панике. — Я его покачаю.
— Ты его и грудью покормишь? — огрызается Джинни, но помощь принимает. Он укладывает её на диван, вытаскивает из кроватки плачущего ребёнка и кладёт рядом. Пока девушка разбирается с застёжками на груди, Гарри убирает с пола кровь, приносит мокрое полотенце и осторожно кладёт ей на лоб.
— Может быть, мы рано уехали из Норы? — спрашивает он, поглаживая её по руке.
— Тебе бы, конечно, было легче, — говорит она тихо. Малютка, дорвавшись до еды, жадно причмокивает, Джинни морщится от боли.
Лицо Поттера такое несчастное. Он силится что-то сказать, но девушка его опережает:
— Пожалуйста, не мог бы ты… — Она отводит его руку с полотенцем от себя. — Просто не трогай, ладно? У меня всё болит.
Он кладёт полотенце на пол.
— Ты горишь.
— Это ничего. Пройдёт.
— Джинни…
— Что?
— Прости меня. Я ничем не могу помочь тебе.
Лицо её слегка смягчается. Она дотрагивается до его руки.
— Ты… уже делаешь много. Ты хороший муж, Гарри.
Он нежно улыбается, целует её в голое плечо, потом ребёнка в лысую макушку. Несколько минут они проводят в тишине. В комнате слышится только тихое младенческое кряхтение.
— Давай, я покачаю его, а ты ступай. — Гарри забирает малыша и опускает его в кроватку. Тот тут же начинает недовольно возиться. — Ничего. Пусть немного поплачет. Я провожу тебя.
Джинни идёт медленно, еле переставляя ноги. В конце концов, он просто осторожно поднимает её на руки и уносит. Потом возвращается. Младенец орёт уже так, что закладывает уши.
— Ну, ну, Сев, а ну перестань, — говорит Поттер, прижимая к себе драгоценный свёрток, — какой ты звонкий. Маме нужно поспать, мама у нас болеет. Но ничего, она поправится. Твой брат так не кричал и спал всю ночь, и никого не будил, а ты что? — Гарри смотрит на сына со смесью жалости, усталости и бесконечной любви. Он носит его по комнате ещё полчаса, рассказывая какие-то сказки, тихо что-то напевает. Потом осторожно кладёт его в кроватку и слегка покачивает. — Ты вырастешь и станешь очень смелым. Большим, сильным волшебником, прямо как…
Тут Гарри запинается и долго молчит. А потом в полной тишине шепчет:
— Северус…
Картинка меняется так стремительно, что я не успеваю понять, что прошло много лет. Теперь это не детская, это супружеская спальня. И разгорячённое тело Поттера нависает над тонкой, девичьей фигурой, распластавшейся под ним. Тихий стон плывёт по комнате. Она едва шепчет его имя, оно срывается с разомкнутых, сухих от тяжёлого дыхания губ. Сделав ещё несколько рваных, судорожных толчков, Гарри скатывается с жены и падает рядом в горячие простыни, весь мокрый и задыхающийся. Секунду в комнате только его тяжёлое дыхание, потом Джинни поворачивается на бок. Она невероятно красивая в голубой полутьме лунной ночи. Гладкая кожа, длинные, густые волосы глубокого медного оттенка, рассыпанные по подушке. От неё Лили унаследовала этот сумасшедший цвет волос…
— Что с тобой? — Её пальцы несмело касаются плеча Поттера, который лежит рядом обнажённый, закрыв локтём лицо.
— Не знаю. Устал.
Она укрывает мужа простынёй, целует в щеку и встаёт с кровати. На её теле я вижу кривой шрам. Альбус появился на свет вот так, магловским способом. Наверное, дело было совсем плохо, раз колдомедики решились разрезать ей живот. Почему она не свела шрам зельями?
— Ничего, Гарри. Отдыхай, — Джинни улыбается и скрывается в ванной.
Поттер некоторое время лежит без движения, потом резко сбрасывает с себя простыню.
Полумрак комнаты давит, словно саван. Он лежит, раскинувшись на смятой постели, словно выброшенная на берег дохлая рыба: вялый, с остекленевшими глазами. Смотрит в потолок целую вечность и долго молчит.
А потом я слышу:
— Северус…
Перевожу взгляд на его профиль.
Поттер красив и молод. Он в самом расцвете сил, но то, как он уничтожает себя, отражалось на его внешности уже тогда. Яркие глаза, прикрытые тонкими веками, обведены чёрными кругами, под ними мешки от недосыпа, волосы тусклые, неухоженные, с проседью уже в двадцать семь, словно ему шестьдесят. Он чересчур худ и бледен, выглядит, как тяжело больной. Моё имя срывается с его губ, и лицо его искажается гримасой не то отвращения, не то скорби. Имя — ядовитый шип — впивается ему в самое сердце, отравляя каждую мысль, каждый вздох.
Из ванной доносится шум воды и тихое напевание.
Прислушиваюсь к его мыслям и понимаю, что вижу только своё собственное лицо. Он помнит его в каких-то совершенно немыслимых подробностях: ресницы, морщинки, брови, изгиб губ и волосы, падающие на белые щёки. Зато моя фигура, закутанная в чёрную широкую мантию, видится ему весьма расплывчато.
— Северус, — повторяет он хрипло.
Перед его глазами, как на экране ноутбука, прокручиваются кадры из прошлой жизни. Я, стремительно летящий по коридору Хогвартса, сидящий за преподавательским столом. Мои волосы, чёрные и блестящие, рассыпались по плечам. Ироничный, насмешливый взгляд. Мой голос, низкий, бархатный, произносит что-то. Слова не важны, важна лишь интонация: она манящая и абсурдно развратная.
В его фантазии профессор Снейп наклоняется к нему, говорит что-то, отчего все волоски на его теле приподнимаются, по спине бегут отнюдь не воображаемые мурашки, и Поттер начинает судорожно сжимать в кулаках простыню под собой, так, словно она может удержать его от роковой ошибки. Но ладони не подчиняются. Они скользят по груди и животу. Когда его пальцы касаются наполовину вставшего, частично возбуждённого члена, я внезапно понимаю, что сейчас произойдёт.
В голове у него мой образ: такой, каким я был в школе. Мрачный, неприступный, но в его воображении я почему-то отвечаю на его требовательные поцелуи, обнимаю его за плечи, поглаживаю спину, попутно избавляя от одежды. Я тяну его в кровать за руку, укладываю, без особой нежности прохожусь руками по поджарому, стройному телу, а потом… Я бы рад отвести глаза, да не от чего. Я не могу перестать читать его мысли и образы, возникающие в его голове — горячие, бесстыдные — они приходят и ко мне.
Я обнажён, держу его в объятиях, глажу по лицу, а потом вхожу в податливое, трепещущее тело подо мной, и реальный Поттер вздрагивает по-настоящему. Рука его сжимает уже твёрдый член без особой нежности. Неторопливо, с чувством, медленно. Губы его разомкнуты, по комнате плывут его тяжёлые, беззвучные вздохи. Глаза закрыты. Я в его фантазиях приподнимаю его от постели, прижимаю к себе, и Гарри выгибается на постели.
— Северус.
Совершенно бесстыдно. Чувственно. И, Мерлин, красиво.
Гибкая фигура в прямоугольнике голубого света полной луны, облитая и обласканная жаркой летней ночью. Он лежит на кровати в самом центре светового пятна, и лунное серебро делает его кожу призрачной, а волосы серыми. Его рука всё быстрее скользит по члену. Головка появляется и исчезает в кулаке, а я не могу оторвать от неё взгляда. Тону во фразах, которые говорит ему мой воображаемый двойник, почти чувствую его прикосновения к коже — Гарри представляет их так живо и смело, будто я взаправду склоняюсь к нему, целую в беззащитную шею, прослеживаю языком все ямочки, впадинки и морщинки, двигаюсь в его теле глубокими, размашистыми толчками, и он подчиняется каждому моему движению, выгибается отзывчиво на любое движение, запрокидывает голову и стонет…
— О-о-о… О, Северус!
Каждое движение пропитано желанием, каждый вздох — больным, острым отчаянием. Из груди его вырываются хриплые, надрывные звуки. Он впивается в простыню ногтями, словно пытаясь выцарапать из себя тоску и невыносимую любовь. Тело дрожит, почти бьётся в конвульсиях, словно поражённое электрическим током. Он отдаётся боли и акту саморазрушения, надеясь хоть на миг забыть о том, что всё не настоящее, нереальное, неживое. Всё — только в его голове.
И когда, наконец, наступает кратковременное облегчение, когда тело обмякает и расслабляется, осознание происходящего накрывает Поттера с головой. Я наблюдаю, как он лежит в темноте, одинокий и разбитый, с осознанием того, что он несчастен, и на самом деле я оставил ему лишь пустоту и невыносимую жажду. Он обречён вечно жить с этой потерей, вечно тосковать. И даже в этом мимолётном акте самоудовлетворения он не находит утешения.
Слёзы, горячие и горькие, пьяные от наслаждения, безобразные, текут по его щекам, орошая смятую подушку. В комнате жарко. Он лежит, не в силах убрать руку от вялого члена, не в силах очистить своё тело от свидетельства безумия, в котором он погряз по самую макушку, и потолок мерно качается над его головой. Качается, качается, как будто он в огромной колыбели. То приближается, то отдаляется, и медленно меркнет солнце, солнце безумия и минутного наваждения. А потом ресницы его сонно опускаются.
Оборачиваюсь на тихий звук и вижу Джинни, стоящую на пороге ванной с одном полотенце. Лицо у неё бледное и несчастное. Не остаётся никаких сомнений в том, что имя, сорвавшееся с губ мужа в момент оргазма, она слышала очень хорошо.
Я долго смотрю на них обоих и не могу понять, что чувствую после демонстрации этого больного желания. Хочется почувствовать что-то кроме всепоглощающей жалости, но мне слишком сложно себя в этом убедить.
Отдёргиваю руку от плеча Поттера, словно обжёгшись и делаю два неровных шага назад. С удивлением понимаю, что у меня кружится голова. Но это же невозможно, я ангел, у меня не должно быть так. Смотрю на свои руки, в них когда-то текла магия, они были налиты силой, сейчас я могу лишь дотронуться ими до кого-то, чтобы принести покой и умиротворение. Я сжимал палочку этими пальцами, творил заклинания над закипающими котлами, мог повелевать стихией, материей, создавать и уничтожать, мог поработить разум и чувства, даже закупорить смерть.
— Я — Северус Снейп, — произношу отчётливо. Жаль, в зеркале я себя не вижу: оно отражает лишь смутное сияние в виде фигуры человека.
Возвратившаяся память подбросила мне неприглядные картины прошлого, которые были так милосердно забыты. Моя служба у Тёмного Лорда, дни и месяцы, проведённые в одиночестве и глубоком чувстве вины, моя твёрдая рука с палочкой, направленной прямо в лоб Дамблдору. И бешеный, невероятно тяжёлый последний год моей жизни. Смерть на залитом липкой кровью полу. Зелёные глаза. Его глаза — это я осознавал абсолютно ясно, хоть и хотел видеть перед собой другие.
Поднимаю взор. Поттер сидит на полу без движения. Его больше не трясёт, он больше не пытается скрутиться в тугой узел, чтобы хоть как-то удержать внутри горестный вой. Душевная боль поутихла от моего прикосновения. Стремительно обхожу его, чтобы взглянуть в лицо. Теперь, когда я вспомнил всё, вижу его иначе.
В свои тридцать три Гарри Поттер уже не мальчик, которого я помню, а мужчина, закалённый жизнью, но удивительным образом сохранивший ту самую искру в глазах. Время оставило лёгкие следы в волосах, подчеркнуло глубину его взгляда. Знаменитый шрам совсем потускнел, но всё ещё был заметен. Исчезла юношеская угловатость и неуверенность. Плечи широкие, он подтянутый, жилистый, сухощавый, в теле чувствуется молодая сила. Тёмные волосы с богатой проседью, как и прежде, непокорны, но теперь это скорее придаёт ему шарм. Его кожа, тронутая морской солью и солнцем, приобрела бронзовый оттенок.
Но больше всего изменения коснулись его глаз. Они теперь почти всегда печальны. В нём расцвело всё, кроме взгляда.
Даже после всего увиденного я не могу осознать произошедшего. Всё это не укладывается у меня в голове! Всматриваюсь в больные, расстроенные глаза, и не могу поверить в то, что вижу. Поттер прижимает к груди письмо, написанное мне много лет назад. Сколько их… Конверты рассыпаны вокруг него, словно жухлые листья, некоторые пожелтевшие от времени, некоторые совсем свежие. На каждом из них в графе «кому» выведено моё имя.
Ловлю себя на мысли, что хочу прочитать эту неотправленную исповедь. Хоть уже всё знаю и даже в общих чертах представляю, откуда взялись его чувства, но мне хотелось бы увидеть эти слова, выведенные пером, взглянуть на них. Они — свидетельство того, что я не сошёл с ума, и Гарри Поттер действительно меня… Я даже про себя не могу это произнести.
Он тяжело поднимается на ноги, наклоняется, собирает письма, аккуратно складывает их в стопку и отправляет обратно в ящик стола. Лицо его неимоверно усталое. Поттер вздыхает, встряхивает волосами, потом подходит к окну и долго смотрит на тёмное море, мерно шумящее в ночи.
Вдруг вспыхивает камин. Слишком ярко, так, что обернувшийся Поттер жмурится от волшебного пламени. По ту сторону я вижу Грейнджер.
— Гарри?
Он садится на ковёр.
— Да, Герм, что случилось?
— Это у вас что случилось? Джеймс возник посреди нашей столовой, прямо над столом, и свалился, разбив всё, что можно было. Весь в слезах, расстроенный и злой. Что произошло?
У Поттера такой вид, будто он всей душой желает сгореть в собственном камине. Он беспомощным жестом трёт лицо ладонями, и Грейнджер, конечно, всё понимает.
— Это как-то связано с Марком? — спрашивает она. — Он появился спустя несколько минут и всё спрашивал, не пострадал ли мальчик. Потом убедился, что Джейми в порядке, и попросил связаться с тобой. Вы поссорились?
Поттер вздыхает, не отрывая пальцев ото лба и продолжая его тереть.
— Мы расстались. Вряд ли он ещё появится в моей жизни.
Грейнджер долго молчит, смотрит тяжёлым взглядом, потом вздыхает тоже. Я вдруг понимаю, что единственный человек, который ещё не бросил Поттера — она. В нём разочаровались почти все. Люди, любившие его, теперь его не понимают и становятся всё дальше. Все, кроме неё. Девочка-выскочка всё ещё верит в мальчика-героя.
— Сейчас Джеймс спит, — говорит она мягко. — Завтра с утра, если он захочет, я отправлю его к тебе.
— Он не захочет.
— Он подросток, Гарри. И он очень любит тебя.
Поттер печально улыбается.
— Я в этом уже не уверен. Ты бы слышала, чего он тут мне наговорил… Могу я тебя попросить ничего не говорить Джинни? Про то, что Джеймс вдруг аппарировал к вам.
Секунду она размышляет, потом кивает.
— Хорошо. Я не скажу. И Рона дома нет, он в командировке, неизвестно, дадут ему отпуск или нет. Я жду его уже две недели, задерживается.
Мгновения тишины между ними кажутся уютными. Поттер сидит без движения перед камином, а Грейнджер просто находится рядом. Наконец, он говорит:
— Спасибо.
Кудрявая, уставшая, в домашнем синем халате, Гермиона кивает, и камин гаснет.
Поттер только смотрит в потухшие волшебные угли. Он сидит без движения целую вечность, а потом произносит:
— Если бы ты действительно был здесь, ты бы уже сделал что-нибудь, Северус. Хоть бы наорал на меня, назвал идиотом. Я такой и есть. Безнадёжно влюблённый в тебя идиот, который разрушает свою жизнь. — Поттер усмехается и облокачивается на свои колени.
Тёплый летний ветер тут же врывается в окно, вздувает занавески, проносится маленьким вихрем по комнате, путается у него в волосах. Он приносит с собой запах соли и водорослей, который я внезапно ощущаю во всей полусладкой полноте. Ветер, который обычно не дотрагивается до моего лица и волос, слизывает чёрные пряди со щёк, ласково касается кожи. Давно забытое ощущение теплоты летней ночи окутывает меня так плотно, что я на миг теряюсь в собственных чувствах. Воздушный поток, обласкав меня с головы до ног, тронув чёрные одежды, устремляется к Гарри. Он внезапно вдыхает этот воздух полной грудью, так глубоко, как только может, пронзительные зелёные глаза распахиваются от боли и пережитых страданий.
И тут я каким-то непостижимым образом понимаю, что все мои дороги, все пути, пройденные при жизни, в посмертии, в мыслях и чувствах, осознанно или нет, вели меня сюда. В это самое мгновение. В эту точку бытия — моего и Поттера — нашего. Одного на двоих.
Я понимаю, что нахожусь там, где должен быть, и точно знаю, что делать дальше.
— Мне даже интересно, что бы ты сказал, если б узнал, что я тебя люблю столько лет. Наверное, у тебя бы не было слов…
— Отчего же, я много чего хочу сказать вам по этому поводу, мистер Поттер.
Всё исчезает мгновенно. Он больше не слышит шума морских волн, не чувствует ветра на щеках. Все его ощущения схлопываются, рушатся, как карточный домик. Дыхание замирает в его лёгких, и Гарри на мгновение каменеет в плечах.
Я вижу бледные до синевы пальцы, что есть силы вцепившиеся в кожу ног: он по-прежнему на коленях возле камина. А в зеркале, висящем на стене, я вижу рядом с ним себя.
Я видим.
Гарри оборачивается очень медленно. Когда находит в тёмной комнате взглядом меня, рот его раскрывается. Это было бы смешно, если б я не чувствовал, что он вот-вот упадёт замертво.
Стою без движения, спокойно смотрю на него, а в разуме Гарри мелькают лихорадочные мысли, одна за другой. Спустя секунду я отвечаю:
— У тебя нет галлюцинаций, Поттер, ты здоров. Я действительно здесь.
И тогда он тихо произносит:
— Профессор Снейп…
Chapter 8: О слезах, сердечной боли и неожиданной болезни
Chapter Text
Поттер отмирает так резко, что я не успеваю перестроиться. Он порывисто встаёт на ноги, делает шаг назад, к распахнутому окну, врезается задом в подоконник, судорожно хватается за него руками. Грудь его вздымается всё чаще. Его накрывает первобытным страхом. Так пещерные люди боялись грозы и бежали от молний, пронзающих небеса.
Делаю шаг вперёд, выставляю ладони перед собой.
— Спокойно, — говорю мягко, — дыши, всё хорошо. Это реальность. Ты не сумасшедший. Я тебе всё объясню.
Но он не слышит. Боком пятится от меня вдоль стены, пока не заходит в угол комнаты и вжимается туда всем телом. Я отступаю, опускаю руку, чтобы не пугать его ещё сильнее. Взгляд его мечется от моего лица к чёрной мантии, босым ногам, потом обратно, к волосам, глазам, и так по кругу.
— Что… происходит… — задыхаясь, спрашивает Поттер. Предпринимаю ещё одну попытку.
— Понимаю, для тебя это неожиданно…
Без предупреждения он выбрасывает вперёд руку, и меня пронзает его силой. Приподнимаю брови: беспалочковая магия в подобном состоянии волшебника могла бы меня серьёзно ранить, если бы я не был тем, кем был. Поток чистой энергии обдаёт меня жаром, но не приносит никакого вреда.
— Кто ты такой?
Слегка склоняю голову к плечу, прислушиваюсь к нему. Сейчас мне это удаётся легко: я до него дотронулся. Аврор Поттер напуган и очень опасен.
Сердце у него бешено колотится, отбивая в ушах оглушительную дробь. Мир вокруг то расплывается, теряя чёткость, то собирается вновь, как в обратном движении калейдоскопа. Ноги вдруг становятся ватными, отказываясь держать. Если б Поттер не стоял, вжавшись в угол, то уже упал бы.
«Северус. Живой. Но это невозможно. Нелепо. Кощунственно. Я видел его смерть. Я держал его руку, слышал его последние слова. Как такое возможно?»
— Поттер, я не жив, но ты меня видишь, потому что я сам этого пожелал. Это правда я.
Бесполезно. Гарри не слышит. Он будто провалился в себя.
«Волосы чёрные, как смоль. Тёмные глаза, всё так же пронзающие насквозь. Невозможно превратиться в умершего никаким способом. Он такой, каким я его запомнил в последнюю встречу. И шрама на шее нет…»
— В посмертии шрамы стираются, — охотно поясняю я.
— Кто ты такой? — снова спрашивает Гарри.
— Я Северус Снейп.
— Северус Снейп умер пятнадцать лет назад у меня на руках, — резко говорит он, всё ещё в ужасе меня рассматривая. — Я видел, как жизнь угасла в его глазах. Кто ты такой и зачем ты здесь? Отвечай, или я тебя прокляну.
Кончики пальцев у него светятся, глаза чуть фосфоресцируют — я вижу тонкий огненный ободок вокруг зрачка. Да в нём прорва магии.
Складываю руки на груди, приподнимаю брови, тонкое, чёрное, магическое одеяние раскидывается вокруг меня, скрывая босые ноги, ниспадая складками на пол, и Поттер вздрагивает всем телом, узнавая.
— Как там было? Что я получу, если смешаю корень асфоделя с настойкой полыни?
Поттер отшатывается так резко, что ударяется затылком о стену. Боль, годами затаившаяся глубоко внутри него, с новой силой обрушивается, как снежная лавина. Боль потери, боль вины, боль невысказанной любви.
— Этого не может быть… — шепчет он дрожащим голосом, не веря своим глазам. И я безжалостно припечатываю ещё раз:
— Взгляни на меня. У тебя глаза матери.
Судорожный вздох вырывается из его груди. Руки взлетают к лицу, он зажимает себе рот, чтобы не завыть в голос.
«Столько лет… Столько лет я оплакивал его. Жил с этой дырой в сердце, с ощущением непоправимой утраты. И вот…»
Я секунду молчу, обдумывая эту непрошенную откровенность.
— Мне очень жаль.
Слезы, горячие и предательские, вдруг выступают у него на глазах, быстро минуют границу ресниц и текут по щекам. Он вытирает их тыльной стороной ладони, но они не перестают литься. Он не может остановить этот поток, захлестнувший его с головой. Наблюдая эту картину, я снова делаю шаг вперёд, и он тут же в ужасе пытается отшатнуться. Если бы он мог пройти сквозь стену, как привидение, это бы произошло.
Опять отступаю.
— Послушай меня. Я не причиню тебе вреда, Гарри…
— Настоящий Северус Снейп никогда бы не назвал меня по имени, — выдыхает он, глядя мне прямо в глаза. В его голосе звучит такое отчаяние, что мне вновь становится его жаль.
— Это было до того, как я узнал, что ты в меня влюблён много лет.
Прозвучало саркастично даже на мой слух, и Поттер снова вздрагивает всем телом, будто его тряхнуло конфундусом.
— Что? Откуда вы…
Я стараюсь смягчить предыдущую колкость и снова пытаюсь протянуть к нему руку, но он боится меня так, словно я восставший из могилы Волдеморт.
— Уходи! — внезапно кричит он страшным голосом и хватается за горло. — Уходи, исчезни! О Господи, зачем ты пришёл?!
Поттер хватает себя за волосы так, будто хочет выдернуть их все, сделать себе так больно, как только можно, чтобы проснуться от этого кошмара.
«Не получится», — понимаю я и заставляю своё тело раствориться в воздухе.
Поттер громко всхлипывает и шарит глазами по комнате, не находя меня больше взглядом. Его лицо мокрое. Я остаюсь там, где стоял, просто делаюсь невидимым, чтобы не пугать его ещё больше. А у Гарри закончились силы. Некоторое время он смотрит на то место, где я нахожусь, пытаясь понять, как такое возможно. Как человек, которого он так любил и так оплакивал, вдруг стоит перед ним, живой и невредимый. И боль, перемешанная с облегчением и страхом, разрывает его изнутри на части. Он не знает, как жить дальше. Что делать с этой новостью.
Так проходит несколько минут, а потом без единого звука Гарри съезжает по стенке на пол и горько плачет. Навзрыд, уронив лицо в ладони. И плечи его дрожат, и руки.
В какой-то момент он запрокидывает голову назад. Я вижу, что слёз больше нет, но напряжение ещё не покинуло тело. Он несколько раз тяжело, сухо всхлипывает, и я внезапно думаю, что лучше бы он продолжал рыдать, размазывая сопли по лицу, чем вот так: мучительно задыхаться.
Он сидит в углу, куда забился, как перепуганное животное, целый час. И целый час я напряжённо стою рядом, чтобы в любой момент подхватить его: Поттер на грани потери сознания от потрясения.
Вот почему ангелы не показываются своим людям. Слишком болезненно, слишком сильно для их нервной системы. Свой человек — всегда кто-то, с кем была сильная связь при жизни. Они хрупки, они хрустальны. Моя магия способна без труда вмешаться в самые сложные психические процессы, куда уж там легилименции. Если захочу, я могу довести человека до такого безумия, что он пойдёт и сбросится с ближайшей крыши. Мы почти всемогущи, людские жизни в наших руках — игрушки. Но дело в том, что человек должен уметь справляться с собой самостоятельно, и вмешиваться нельзя.
Смотрю на Поттера, который постепенно успокаивается. Плечи его перестают дёргаться, прерывистое дыхание становится неслышным, и я отхожу от него на несколько шагов. Гарри взял себя в руки достаточно быстро для такого потрясения.
Вопреки моему отношению к мальчишке, я всегда знал: он сильный. И тут я думаю о том, как бы в других обстоятельствах он воспринял новость, что его растили жертвой, которую нужно вовремя принести? Не на пороге смерти, а если бы я рассказал ему об этом? Как бы воспринял это Гарри Поттер весной 1998?
Наверняка это случилось бы в подземельях Хогвартса, в каком-то пустом классе, в разгар битвы за Хогвартс. Я бы притащил его силой, заставил бы взглянуть в думосбор, и… что тогда?
Он заплакал бы? Забился бы в истерике? Испугался?
Испугался, безусловно — он же не безумец! Бояться смерти заложено в человеке с рождения, это инстинкт, но Поттер бы, думаю, быстро справился с собой. Он бы попытался скрыть от меня слёзы, которые хлынули сегодня по его щекам, он бы смирился со своей судьбой, со своим не-выбором. Он бы поднял на меня глаза, полные боли до дна, и спросил:
— Это правда?
Гарри непременно бы уточнил. Потому что все, кто знал об истинном плане Дамблдора, были мертвы, в живых, знающим правду, оставался только я. И только я мог рассказать ему, почему он должен умереть.
Смог бы я это сделать? Конечно. Я рассказал бы ему безжалостно, сухо, безэмоционально. Может быть, даже прикрикнул бы на него в момент слабости, но… Я смог бы его поддержать.
Если бы он уронил голову на моё плечо, я бы подставил его. Я бы смотрел на то, как он силится принять ситуацию, силится принять собственную смерть — чудовищно! Отвратительно! Дети не должны проходить через такое! Не должны решать, жить им, или умереть! Да никто не должен этого делать!
И я бы пожалел его тогда. Если бы был жив — пожалел, попытался бы как-то поддержать, в своей неуклюжей, дурацкой, чёртовой манере. Быть может, погладил бы по плечу, сказал что-то ободряющее…
А что бы было дальше, учитывая его любовь ко мне?
— Поцелуйте меня, профессор…
?
— Мне страшно, профессор…
?
— Возьмите меня за руку, я не могу, не могу…
?
Что бы ты сделал, Снейп? Обнял бы его? Поцеловал бы? Ты бы оттолкнул мальчишку со стопроцентной вероятностью. Ты бы жёстко дал понять, что его чувства и слабость неуместны, что он должен выполнить свой долг — и будь ты проклят за это!
Мне было семнадцать, когда я принял Метку, столько же, сколько и Поттеру, когда я искренне решил, что Волдеморт — это истина и правда! И только любовь удержала меня от падения в бездну. А Поттеру уготовано было прыгнуть по собственной воле, полностью осознавая, что дальше — смерть, ничто, конец…
«А он любил меня тогда. Он любил, когда держал меня на руках, и кровь моя текла по его пальцам. Он любил, когда шёл, раздавленный и опустошённый, на собственную смерть. Он любил и тогда, когда жизнь снова влилась в его жилы, и много после — когда опасность миновала, когда наладилась жизнь, когда всё обещало быть благополучным…»
— Хорошо, что я вовремя умер, — произношу я беззвучно, глядя на то, как Поттер нетвёрдо поднимается на ноги в углу комнаты. — Я бы сломал его, не смог бы сходу разобраться, что к чему.
Я вдруг вспоминаю незначительный эпизод из моего посмертия и удивляюсь, как всё в этом мире взаимосвязано. Мысли, чувства не случайны, как будто кто-то великий уже написал невероятно сложный сценарий земной жизни всех людей и теперь с увлечением смотрит спектакль. Мы можем мельком восхититься архитектурой здания, подумать о нём чуть дольше, чем думаем о других строениях на этой же улице, а потом, через много лет, встретим в нём свою судьбу, или придём туда работать, или именно с этой крыши нам на голову свалится кирпич.
Я встретил Гарри давным-давно, только тогда я его не запомнил и почти ничего не знал о том, что где-то существуют «мои» люди. Трёхсотый только что встретил меня с Сияющей Тропы, и я постоянно ощупывал своё тело, не ощущая его ладонями, и спрашивал: «Это так всегда теперь будет?»
Трёхсотого я вспомнил тоже. Измождённый, добродушный вид, русые волосы, серые глаза — Ремус Люпин. Почему именно он оказался рядом со мной в посмертии? И в чём его задача?
Я узнал и второго. Доброго, весёлого ангела, который ушёл вслед за мальчиком Тоби. Сириус Блэк. Если ушёл, значит, свою задачу выполнил. Жаль. Мог бы увидеться с крестником. Я слышал, мальчишка сильно переживал после его смерти.
Поттер встретился мне сразу, моей первой земной осенью. Он шёл по парку без определённой цели, не торопясь, медленным, задумчивым шагом. На нём было длинное серое пальто, горло замотано красным шарфом. День выдался неожиданно приятным среди пасмурного октября и, несмотря на то что солнце так и не показалось в просвете серых летящих облаков, вокруг было достаточно светло и радостно.
Поттер шёл, к его ботинкам прилипали жёлтые листья, он тихо улыбался своим мыслям, а я просто поднял голову, увидел его и понял, что должен пойти следом. Такое случалось иногда. Ангела тянет к тем людям, кому нужна защита. Я подумал, что этот невысокий задумчивый мужчина вот-вот должен был влипнуть в какую-то историю.
Я плёлся рядом и никак не мог понять, что нужно делать. Обычно опасность считывалась сразу, но сейчас, кроме того, что у него не было зонта, а на небе стремительно собирались тучи, ничего не происходило.
На землю упали первые капли, зашелестели деревья, послышался гул усиливающегося дождя, и Гарри вдруг остановился. Он поднял голову к небу, взглянул в серую, расплывчатую даль и подставил лицо холодным каплям. Я смотрел на него целую минуту. Как капли разбиваются о его лоб и щёки, как трепещут ресницы от холода. Смотрел и не мог понять, почему смотрю. Моя душа тогда потянулась к этому осеннему человеку в красном шарфе.
Я подошёл, встал совсем рядом и развернул над ним крыло, а он вдруг открыл глаза, взглянул прямо на меня и улыбнулся. Спокойно, ласково, как самому любимому на свете человеку. Потом взгляд его скользнул сквозь моё бесплотное тело к беспокойным кронам клёнов, растущих в парке, и Гарри пошёл дальше. А я остался стоять.
Сейчас я понимаю, почему прикрыл его крылом. Он уже тогда был «моим» человеком. А вообще, было ли время, когда не был? Когда ему не требовалось моё крыло?
Ночь я провожу в раздумьях.
Ближе к пяти утра появляется Джеймс. Он прибывает по каминной сети, тихо проходит из гостиной в спальню отца, садится на его кровать.
Гарри не спит, но и головы на шаги сына не поворачивает. Лежит под простынёй прямо в одежде и смотрит в потолок.
— Пап, прости, — говорит Джеймс тихо, — я не должен был с тобой так говорить.
— Это тётя Гермиона тебе мозги промыла?
Невыразительный, усталый голос отца обижает Джеймса, но он тут же глотает эту обиду.
— Нет. Я виноват и знаю это сам. Просто…
Поттер медленно поворачивает голову. В лучах юного солнца его глаза кажутся тёмными и пустыми.
— Иди спать, сын. Ты ведь глаз не сомкнул, верно? Завтра поговорим.
Некоторое время мальчик сидит возле него, опустив голову, потом встаёт и тихо идёт к двери.
— Джейми, — останавливает его Гарри, и когда тот оборачивается, добавляет, — я люблю тебя.
В лице младшего Поттера дрожит каждая чёрточка. Он тяжело сглатывает непослушным горлом, кивает и уходит.
В комнате некоторое время слышен только морской прибой. Потом Гарри негромко говорит, глядя в потолок:
— Скажешь, что он похож на моего отца?
— Он похож на тебя.
Заставляю своё тело появиться, и со стороны, наверное, это выглядит жутко: человеческая фигура в чёрном, вдруг соткавшаяся из полутьмы в углу комнаты. Гарри ложится на бок, смотрит на меня. У него совсем нет сил. Руки и ноги его тяжелые, и шевелится он с большим трудом. Подхожу ближе.
— У тебя жар. Я чувствую.
Он долго меня рассматривает, скользит взглядом по моему лицу и фигуре, скрытой под чёрными одеждами. Я стою ровно, без движения, позволяю себя разглядеть. Часы на стене тихо тикают, отсчитывая мгновения. Вдруг он протягивает руку ко мне, и после секундной заминки я подхожу и вкладываю в его ладонь свою.
— Тёплый, — произносит Поттер, слабо сжимая мои пальцы, — как живой. Кто ты?
— Я ангел.
Чёрная бровь слегка приподнимается.
— Северус Снейп — ангел, — говорит он с оттенком иронии, и я тоже дёргаю бровью. От этого жеста слабая улыбка исчезает с его губ, он его узнаёт, руку мою отпускает и чуть вздрагивает не то от озноба, не то от потрясения.
— Значит, Лили говорила правду.
Киваю.
Он лежит на боку, утопая в мягкой перине. Его кровать чудовищная, в неё проваливаешься, как в яму, и тут же задыхаешься. Гарри весь горит. Я чувствую, как тяжело поднимается его грудь при вдохе и как облегчённо она опускается. Лицо румяное, ему холодно, ноги мёрзнут, волосы прилипли ко лбу. Лихорадка началась только что и набирает обороты.
Никакой болезни в теле Гарри я не вижу. Должно быть, его свалила нервная горячка. Он наблюдает, как я сажусь на пол рядом с его кроватью. Широкое чёрное одеяние раскидывается вокруг ног, ложится тяжёлыми складками на паркет. Поттер безучастно смотрит на них, моргает медленно, щёки его пылают.
Дотрагиваюсь до его лба.
— Ты болен, Поттер.
От прикосновения он прикрывает глаза, чуть тянется к моей руке. Я вливаю в него собственную исцеляющую магию, и ему становится немного легче. Истерика выжала его досуха, внутри нет ничего, лишь болезненная, сосущая пустота и какое-то отупение.
— А ты совсем такой, каким я тебя запомнил, — тихо говорит он. — Не изменился. Мантия… как чёрное озеро у ног.
— Тебе нужно жаропонижающее зелье. Скажи мне, где взять, и…
— Сколько ты уже здесь?
Похоже, за своё здоровье он не переживает, его волную только я. Прислушиваюсь. У Поттера в голове бардак, впрочем, когда было иначе, но то, что я чувствую глубже, не похоже ни на что. Нечто подобное могут ощущать люди, внезапно исцелившиеся от смертельной болезни. Я достаю из шкафа пуховое одеяло и укрываю его до подбородка.
— Две недели. — Следующая мысль, мелькнувшая у него в голове, заставляет меня иронично улыбнуться. — Поттер, твой любовник волнует меня в последнюю очередь.
Он впервые смотрит мне в глаза, в лице не меняется, но по обжигающей волне стыда я снова понимаю, о чём он думает.
— Я встретил Марка на курсах для авроров. Джинни тогда вот-вот должна была родить Альбуса. Я напился до беспамятства, когда начались роды, отмечал это событие, и сам не понял, как оказался в его постели. Проснулся утром с ужасным похмельем, и только потом узнал, что Джинни почти умерла. — Глаза его пустые, лицо бесстрастно. Я внимательно его разглядываю. — Какие-то осложнения в родах. Счёт шёл на мгновения. Магическая непереносимость, зелья не действовали. Что-то с совместимостью магии матери и плода. Никогда себе этого не прощу: пока она мучилась и боролась за жизнь, я кувыркался в койке.
Тишина висит, как пересохшее на солнце бельё: каменная.
— Что было потом? — спрашиваю мягко.
— Мы с Джинни расстались, едва Алу исполнилось шесть. Через год сошлись снова, решили попробовать ещё раз. — Гарри вздыхает, но я ощущаю только слабое сожаление. — Джеймс сильно переживал, у него даже начали пропадать магические способности, а ему нужно было поступать в Хогвартс. Я порвал с Марком, решил, что начинаю новую жизнь. Через год родилась Лили, и всё рухнуло окончательно. Джинни меня тогда чуть не прокляла, да и сейчас у нас натянутые отношения.
— И ты снова сошёлся с Марком?
Он долго молчит, потом выпрастывает руку, я вижу при этом, как его пронзает волной озноба, начинают стучать зубы. Накидываю на него сползший с плеча край одеяла, и он снова ловит мою руку. Должно быть, пальцы у него горячие, но я не чувствую. Поттер тянет мою руку к себе под щеку, утыкается лицом в ладонь и медленно вдыхает. Я не отнимаю, только вздыхаю в ответ по привычке и опираюсь локтём о кровать. Медленно тянутся мгновения. Мы молчим.
— Никак не могу поверить, что ты здесь. Я столько раз представлял, что ты вот возьмёшь и вдруг появишься прямо передо мной. Представлял, как кинусь тебе в ноги. Стану рыдать от радости, обнимать твои колени.
— Ещё не поздно осуществить этот план, если тебе от него будет легче, — насмешливо говорю я, но он не улыбается.
— Ты читаешь мои мысли?
— Если прислушиваюсь.
— Сейчас прислушиваешься?
Слова выходят приглушёнными: его лицо всё ещё в моей ладони. Внезапно ловлю себя на мысли, что хотел бы ощутить на коже его дыхание и едва уловимые прикосновения ресниц. Он поднимает голову и прямо смотрит на меня.
«Мне никогда не отмолить этот грех».
Качаю головой.
— Бог создал людей слабыми. И Он любит вас такими. Искреннее раскаяние смывает любую грязь.
«Я всегда любил только тебя».
Прежде чем ответить, долго молчу.
— … и это разрушило тебе жизнь.
Гарри вздрагивает, но лежит тихо, больше не двигается. Он как будто тонет во мне, я считываю всё: чувство вины, которое ест его поедом постоянно, болезненное, изматывающее одиночество, тотальное непонимание окружающих и душевная боль.
— Нет, — произносит он тихо. — Это единственное, что заставляло меня жить.
Внезапно он поворачивает голову. Рассматривает меня так, будто не может насмотреться, будто пьёт глазами. А я внезапно вспоминаю, как он не давал к себе прикоснуться, как пятился в страхе назад, пока не забился в угол, как кричал на меня, и где-то внутри, где находилось моё человеческое сердце, с силой закручивается тугой вихрь. Глаза Поттера, такие же зелёные, как морская волна, полны любовью, такой сильной и вечной, которую не смогла уничтожить смерть. Любовью осознанной, выстраданной, мудрой и на удивление ранимой, нежной. Внутри него разворачиваются в полную мощь человеческие желания, и все они нацелены на меня. Я чувствую себя центром его вселенной, его константой, его смыслом, мне никогда раньше не приходилось такого ощущать. Меня омывает его чувствами, я весь окутан ими, как коконом, и мне делается неловко.
— Поттер…
Он чуть улыбается.
— Снова читаешь мои мысли?
Качаю головой, не отрывая от него взгляда и купаясь в нём, как в кристально чистом источнике.
— Не только мысли. Я могу почувствовать всё, что чувствуешь ты. Считать все эмоции и ощущения. Я вижу тебя всего, полностью. Ты ничего не можешь от меня утаить.
Улыбка становится ещё ярче, теперь я вижу в ней тень его самого, а не пустую оболочку.
— Тебе следовало сказать об этом раньше. Кажется, я излишне откровенен.
Отвечаю ему спокойным взглядом и вижу, как он нежится в нём.
— Ты совсем другой, — снова говорит он после паузы, — спокойный. Не кривишься и не орёшь на меня.
Усмехаюсь.
— Смерть многое меняет в отношении к миру и к людям. И ты не сумасшедший. Прекрати об этом думать.
— Да я вроде бы уже и не против сумасшествия. — Он медленно обводит меня взглядом и снова утыкается лицом в руку. — Твоя ладонь пахнет, как свежий морской бриз ранним утром. Не как человеческая. И ещё что-то… ни на что непохожее. Сладкое до горечи. — Он поднимает на меня глаза. — Ты весь светишься, в темноте лучше заметно.
— Это мои крылья.
— У тебя есть крылья? — Оцениваю иронию: профессор Северус Снейп, ужас подземелий и всех студентов Хогвартса обзавёлся белыми ангельскими крыльями. Уголки губ его вздрагивают. — Где они?
— У меня за спиной. Просто ты их не видишь.
Гарри какое-то время рассматривает пространство за моими плечами.
— Я бы хотел на них посмотреть. Ты покажешь мне? — Не дожидаясь ответа, он снова поворачивает голову и утыкается носом в мою ладонь. Потом скользит губами по коже и целует запястье.
— Я не чувствую прикосновений, Гарри.
— Совсем никаких? — Он поворачивает голову, и его лицо оказывается в колыбели моей руки.
— Совсем.
— Жалко. Но ты помнишь, как это?
— Теперь да.
— Теперь?
— Ты заставил вспомнить мою человеческую жизнь.
Гарри вдруг приподнимает брови и становится похожим на того наглого мальчишку, которого я помню.
— Я и тут отличился?
Усмехаюсь.
— Мне и в посмертии нет от тебя покоя, Поттер.
Его улыбка тускнеет, веки сонно опускаются и тут же приподнимаются снова, как будто он не может позволить себе уснуть. Страшно, что я исчезну снова и навсегда. Буря в душе тоже слегка стихает. Ему нужен сон.
— Ты побудешь со мной, пока я сплю? — говорит он уже заплетающимся языком. — Не уходи, пожалуйста. Северус…
Дотрагиваюсь до его румяной щеки другой рукой: та — по-прежнему под его головой.
— Спи, Поттер. Я буду здесь.
* * *
Он болеет весь следующий день. Мучается температурой и ломотой в теле. Я сижу у него в ногах на кровати.
Испуганная Лили приносит отцу чай и холодное полотенце. Девочка такая серьёзная и ответственная. Поттер через силу улыбается, пьёт горячий напиток мелкими глотками, хотя ему не хочется. На обед Джеймс готовит бульон и тоже крутится рядом с кроватью. Старший сын даже берёт на себя обязательства по поводу статьи и отвозит её в редакцию. Сам, магловским транспортом. В тонкостях электронной почты так никто и не разбирается. Дети развлекают отца, чтобы ему не было скучно лежать одному в кровати, и я чувствую, как цветёт сердце Гарри. Он объят тем самым светлым чувством, которое могут подарить только дети: когда ты любим абсолютной любовью, когда тебя ценят только за то, что ты есть.
Вечером я захожу проверить всех троих. Ал в пижаме валяется на кровати с книжками, Джеймс, оставшийся сегодня дома, что-то отчаянно сочиняет в своей комнате. Вокруг него разбросаны смятые листы пергамента. Лили, сцепив маленькие ладошки и опустившись на колени перед кроватью, молится:
— Боженька, пожалуйста, пусть папочка быстрее поправляется…
Я успокаивающе дотрагиваюсь до медных волос девочки, и она открывает глаза, поворачивает голову ко мне.
— Ангел, иди к папе, пусть он выздоравливает.
Chapter 9: О грозе, долгих вечерах и объяснениях в любви
Chapter Text
На следующий день Поттеру лучше. Он готовит завтрак, постоянно поглядывая на меня. Я внимательно наблюдаю, как он хлопочет по дому, как спорятся в его руках множество дел одновременно. Уже не впервые понимаю, что в нём прорва волшебства, которое хочет быть использованным. Заклинания выходят у него такими сильными, что вода в чайнике закипает за две секунды, а штрудель просто взрывается, забрызгав всех ошмётками яблочного пюре.
Поттер смеётся. Он окружён детьми. Они все вместе пекут блинчики, и Гарри ловко подкидывает их на сковороде, а потом ловит. Когда получается неудачно, тут же подбегает Флаффи и с удовольствием вылизывает пол. Собака прижилась окончательно, постепенно проникла и в дом. Вчера Лили втихаря привела её в свою комнату, где довольная псина спала всю ночь у неё в ногах. Джеймс снова дома, топчется на кухне, то хватаясь за швабру, то за посуду. Малютка Лили вертится в лазурном сарафанчике под ногами, и в конце концов Гарри ловит её, сажает себе на колени и заплетает ей причудливые косы. Я приподнимаю брови: у Поттера ещё и парикмахерский талант. Причёска у девочки выходит мудрёная и крепкая, чтобы непокорные волосы не растрепались.
Обращаю внимание на Альбуса. Мальчик во всеобщем веселье не участвует. Задумчиво сидит за обеденным столом вдали от всех и только наблюдает. Я осторожно приближаюсь, чтобы взглянуть на него повнимательнее, и он тут же это чувствует. Он видит золотистое сияние, к которому уже привык, и напряжённо вглядывается в пространство. А потом достаёт альбом и набрасывает пару эскизов. Это снова море, корабли и скалы, изображённые в немыслимых оттенках ярко-зелёного, оранжевого и фиолетового.
Младший сын Поттера меня тревожит, но пока я не могу разобраться, чем именно. Я вижу, что он ранен, но как и чем? С виду Ал счастлив, спокоен, уравновешен, однако внутри у него тугой узел сдерживаемых эмоций. И я никак не могу понять, откуда…
За моей спиной что-то со звоном разбивается, следом раздаётся испуганное «Ой!» и тихий смех.
— Репаро! Эванеско!
Миска на полу снова становится целой, а разлитое блинное тесто исчезает даже до того, как Поттер заканчивает формулу заклинания. Я хмурюсь. Так быть не должно. Магия буквально выплёскивается из него, рвётся в пространство с волшебной палочки.
После завтрака Джеймс нервно поглядывает на часы, и Гарри улыбается:
— Что, не терпится улизнуть?
Мальчик делает бесстрастное лицо, но его отец только ухмыляется.
— Ладно уж, иди к друзьям. Только поздно не возвращайся. Хотя бы до полуночи придёшь?
Джеймс тут же подскакивает, горячо обещает, что придёт домой вовремя, и уносится, разве что песок за ним столбом не стоит. Поттер задумчиво и растроганно улыбается.
Они так и не поговорили. Знаю, что мальчик думал остаток ночи и утро и страшился этого разговора, который так и не произошёл. К чему слова, когда отец сказал ему самое главное: люблю.
Когда Лили и Альбус уходят на пляж, прихватив с собой Флаффи, я подхожу к Поттеру и трогаю его за плечо. Он на мгновение склоняет голову и касается моих пальцев щекой, но потом говорит бесстрастно:
— Я уже два часа наблюдаю, как ты хочешь мне что-то сказать. Скажи.
— Положи палочку.
Он слегка удивляется, но выполняет.
— А теперь сотвори заклинание. Любое.
— Беспалочковая магия получается у меня только в состоянии аффекта. — Я продолжаю смотреть на него, приподняв брови, и он вдруг улыбается. — Как будто я снова в подземельях, и ты пытаешь меня окклюменцией.
Он вытягивает руку в сторону вазы с цветами, стоящей на столе.
— Вингардиум левиоса!
Ваза разлетается на куски, Поттер едва успевает закрыть лицо рукавом. Я задумчиво смотрю на осколки под ногами.
— Не двигайся, — тут же говорит Гарри, бросаясь за шваброй, — ты босой. — И только потом понимает, что сказал ерунду, заливается румянцем и всё же подметает пол вокруг меня.
Я стою послушно, не двигаясь. Не отрываю от него взгляда. И меня впервые за много лет посещает странное чувство нужности. Болезненную привязанность Поттера я осознать ещё не успел в полной мере, просто принял тот факт, что она есть, но по-настоящему почувствовал только сейчас. «Босой? Так я ж не чувствую ничего, глупый!» Эти слова застряли в горле и так и остались невысказанными. Я просто не смог произнести их в своей резкой, насмешливой манере.
— Так зачем ты попросил меня разбить вазу, Северус?
Ему нравится моё имя. Он повторяет его при каждом удобном случае с тех пор, как поверил, что я действительно не плод его воображения. И то, какое наслаждение оно доставляет ему, — это довольно странно, любить имя! — меня слегка дезориентирует.
— Твой магический фон нестабилен. Ты разве сам не видишь?
— Да, колдомедики мне что-то такое говорили два года назад, когда я попал в больницу.
— Какие были симптомы?
Поттер отмахивается и продолжает убирать кухню.
— Головокружение, тошнота, слабость, искрило всё вокруг меня. Не мог подойти к микроволновке, два ноутбука сгорело, когда я попытался включить. И так, по мелочи ещё: руки дрожали, температура скакала.
— Поттер, ты идиот. Хочешь превратиться в обскура?
Широким шагом приближаюсь к нему, отнимаю швабру и отставляю в сторону.
— Дай, я взгляну, стой, не двигайся.
Я просматриваю магическую ауру Гарри, нити магии, сплетающиеся в его теле. Они горят неровным золотистым светом, то вспыхивая, то угасая почти полностью. Я вижу его ауру такой яркой, словно смотрю на солнце.
— Тебе необходимы восстанавливающие зелья. И лечение. Ты что, вообще не пользуешься волшебством? Его накопилось в теле столько, что ещё немного, и тебя разорвёт.
— Снова спасаете меня, профессор?
Я замечаю вдруг, как тихо стоит передо мной Гарри Поттер, как проникновенен и покорен его взгляд. Он смотрит так, будто готов позволить мне убить себя, только бы я не исчезал больше из его жизни. Меня осознание этого поражает настолько, что я на секунду теряюсь.
— Поттер, — беру себя в руки, стараюсь абстрагироваться от его эмоций, — ты должен заботиться о своём магическом здоровье. Ты волшебник, а не магл. У тебя внутри сила, с ней шутки плохи. Почему ты улыбаешься, чёрт тебя дери!
— Ангелам можно поминать нечистого?
— Поттер.
— Я снова бешу тебя, да?
— ПОТТЕР!
Он вдруг улыбается и подаётся вперёд. Его руки смыкаются на моей талии, он прижимается к груди: ростом так и не вышел, я по-прежнему выше на голову. Но потом сразу отстраняется, словно урвал себе мгновение, словно ему было нельзя, а он нарушил правило.
— Хорошо, я покажусь врачам.
Внезапно обнаруживаю, что мои руки сжимают его плечи, и отстранённо размышляю, что они там делают?
— Я тебе сам лечение подберу. Не ходи в Мунго, там зельевары из Хаффлпаффа.
Гарри смеётся открыто и искренне. Я ни разу за две недели не слышал такого смеха от него. А потом отходит, чтобы вымыть тряпку и швабру и чтобы выдохнуть: он не дышал, пока я был рядом. Я чувствовал.
* * *
Дни летят, как чайки над морем: неспешно, то и дело останавливаясь, чтобы просто покачаться на волнах и ничего не делать. В белом доме царствует мир. Я слежу, чтобы Поттер принимал зелья, Ал всё больше гуляет один на побережье, садится рисовать на крыльце с натуры. У него получается, и Гарри каждый вечер рассматривает его картины, которые множатся со страшной скоростью. Лили теперь знает секрет: папа видит ангела.
Это случилось, когда она застала Гарри за разговором со мной. Девочка очень обрадовалась. Она обняла отца, потом бросилась ко мне:
— Ангел! Папочка теперь тебя видит, и он теперь счастлив, правда?
Наивные, беспечные слова маленькой девочки вдруг неожиданно трогают что-то в моей душе. Внезапно я вижу всё со стороны: себя, Поттера, наше прошлое, наполненное кровью и ненавистью, моё посмертие, которое было дано мне «для чего-то».
Чужая любовь, увиденная, прочувствованная, даже просто осознанная как факт, может стать мощным катализатором перемен в жизни. Как луч солнца, пробивающийся сквозь густую листву, она освещает те уголки души, которые давно пребывали в тени и были забыты.
Когда тебя так беззаветно любят, ты словно становишься свидетелем чего-то высокого и чистого. Преображаешься, расцветаешь. Эта красота, эта гармония, заставляет задуматься о собственной жизни, о собственных отношениях с людьми и миром. Вдруг начинаешь видеть возможности для любви там, где раньше их не замечал.
«Ты босой!» — начинаешь ценить простые проявления заботы и внимания. Чужая любовь — маяк, что указывает путь к более высоким идеалам, вдохновляет на поступки, которые казались невозможными, на прощение, которое казалось немыслимым, на жертвы, которые казались непосильными. Она заставляет работать над собой, чтобы стать лучше, достойнее, вернее. Облагораживает, побуждает искать прекрасное в других и в себе.
Когда ты чувствуешь такую сильную любовь, меняется само восприятие мира. Он перестаёт быть серым, враждебным, наполняется красками, звуками, запахами, которые раньше были незаметны. Ты становишься открытым, более восприимчивым к красоте и добру. Любовь, которой тебя одаривают, становится фильтром, и через него ты смотришь на мир. Этот фильтр окрашивает реальность в тёплые тона, смягчает острые углы, делает мир более дружелюбным и безопасным. Ты начинаешь доверять людям больше, верить в их доброту, видеть в них потенциал для сострадания.
Ощущение любви кардинально меняет отношение к самой любви, как к сути человеческих отношений. Исчезает боязнь быть уязвимым, разрушаются стены вокруг сердца. Ты открыт, учишься любить безусловно, не требуя ничего взамен. Понимаешь, что любовь — не сделка, а дар, который нужно ценить и беречь.
И Поттер обеими руками протягивает мне этот дар, истекающий слезами и кровью на ладонях. Может ли быть такое, что именно он удержал меня на пороге Золотых Врат? А может быть, Сияющая Тропа исчезла под моими ногами только для того, чтобы я мог ступить на землю рядом с ним? С мальчиком, который любил меня всё это время?
Не этого ли ищут все люди на земле? Деньги, власть, золото, ценные бумаги, могущество — магическое или материальное — ничто. Ты можешь быть Царём горы, но быть несчастным, одиноким и ненавидимым всеми. И тогда существование твоё будет беспросветным и принесёт лишь разочарование.
Да что там говорить про всех, когда я сам — яркий пример! Не этого ли ты сам искал всю свою жизнь, Северус Снейп? Не любви ли? Так вот она, возьми, почему медлишь? Что останавливает тебя сейчас, когда ты прочёл душу Гарри Поттера, как занятный рецепт зелья?
Вечером одного из тягучих, бессмысленных дней, когда ничего не происходит, и все наслаждаются просто летом и теплом, Джеймс приходит неожиданно рано. То, что мальчик в отвратительном настроении, понятно уже по тому, как грохает входная дверь — аж стены трясутся.
— Джейми? — Гарри встаёт из-за стола и с недоумением смотрит, как сын, перескакивая через две ступеньки, летит по лестнице наверх. Через секунду доносится приглушённый хлопок двери. — Что это с ним?
Я лишь приподнимаю брови, многозначительно смотрю на Поттера.
— Спроси. Это твой сын.
Он устало проводит рукой по лицу, встаёт и идёт на второй этаж. Я иду следом. Поттер не возражает.
Джеймс с мрачным видом лежит на кровати в драматичной позе: обняв подушку и уставившись в окно. На пороге валяются огромные дурацкие кроссовки и выпачканные в песке носки. Останавливаюсь в углу комнаты, Поттер замирает в дверях.
— Как прошёл день? — негромко спрашивает он.
— Шикарно.
Поттер беспомощно смотрит на сына некоторое время, стреляет взглядом в меня, потом садится рядом на кровать.
— Что-то произошло?
Джеймс не отвечает. Только лежит и пыхтит, как склянка для дистилляции с тонким горлышком на сильном огне.
— У тебя какие-то неприятности? — предпринимает новую попытку Гарри, и Джеймс неожиданно отшвыривает подушку.
Он уже готов нагрубить отцу и выгнать его из своей комнаты, но потом в голову подростка приходит мысль, что совет взрослого мог бы существенно облегчить ему жизнь. Я с тайной усмешкой наблюдаю, как в мальчике борются два чувства: желание довериться отцу и страх, что его поднимут на смех, не примут его проблемы всерьёз и просто отмахнутся, как от назойливой мухи.
Поттер проявляет удивительную деликатность, будто читает мысли сына, подобно мне. Я-то уже знаю, что происходит.
— Слушай, если не хочешь, не говори. Просто знай, что я рядом, и что бы ты ни натворил, я на твоей стороне.
Джеймс рассматривает его некоторое время, потом несмело сообщает:
— Я влюбился.
Этого Поттер не ожидал. Я усмехаюсь: такое комичное выражение у него на лице. От существа, которое совсем недавно пускало слюни в подушку и еле умело ходить, как-то странно слышать, что оно уже в кого-то влюбилось. Для родителей время идёт немного иначе.
— Э-э-э… это очень хорошо.
Джеймс скептически смотрит на отца и уже жалеет, что раскрыл рот.
— Забудь.
Он отворачивается и сердито обнимает одеяло.
— Нет, нет, прости, я… — мямлит Поттер, потом бросает растерянный взгляд на меня. Я делаю неопределённый жест рукой: это твои проблемы и твой сын. Потом он разглядывает красное лицо своего ребёнка и говорит совершенно искренне: — И чего им надо, этим женщинам, правда ведь?
Глаза Джеймса на мгновение расширяются, а потом он несмело, словно трогает ногой ледяную воду, соглашается:
— Точно.
Поттер ложится, подперев щеку ладонью.
— Кто она, расскажешь? Как её зовут?
Джеймс колеблется секунду.
— Мария.
— Красивое имя. Она, наверное, самая лучшая девушка на свете?
— На побережье — точно.
Поначалу разговор не клеится, мальчику неловко, он говорит неохотно, спотыкается и путается в словах. Но постепенно Гарри удаётся разговорить его. Оказывается, Джеймс, придя сегодня в кафе, увидел Марию с другим парнем.
— Я прихожу, а он её обнимает. И к себе тянет. А она вроде бы и не против, представляешь. Вчера только мы гуляли, я её даже поцеловал. Она отвернулась потом, сказала, что ещё ни с кем никогда не целовалась, и вроде как это её первый поцелуй. — Щёки его слегка краснеют, но на отца он смотрит решительно. В его взгляде читается: только попробуй надо мной посмеяться! Гарри только кивает и слушает с серьёзным видом. — Ну… я не стал настаивать больше. Для девчонок вроде это важно. А сегодня смотрю, с каким-то хреном обнимается.
Поттер не ругает сына за грубое слово, только смотрит участливо.
— И что ты сделал?
— В морду ему дал, — усмехается Джеймс, — подошёл, даже спрашивать не стал, кто он и что тут делает. Оторвал его от Марии и ударил. Он свалился. Мари завизжала. Выскочил её отец, выгнал нас обоих. Я пока домой шёл, Мария меня догнала, что-то там говорила, оправдывалась. Только я её оттолкнул, сказал, чтобы шла к тому выродку и оставила меня в покое. Ну и… обиделась она. А теперь думаю: может зря я так. Может он её против воли обнимал…
В комнате некоторое время висит тишина. Поттер смотрит на своего сына со смесью гордости и изумления. Пауза затягивается до тех пор, пока Джеймс уже снова не начинает думать, что зря всё рассказал. Я молчу в углу.
— Вот что я тебе скажу, — наконец говорит Гарри решительно, — я в твоём возрасте не знал, как решиться девочку на бал пригласить, а ты уже подраться за её честь успел. Да ты крут, приятель.
Джеймс удивлённо вскидывает брови.
— На бал? Серьёзно? Делов-то: подходишь и приглашаешь.
Гарри усмехается.
— Тогда всё казалось ужасно сложным и неловким. Я сразился бы ещё с десятком драконов, только бы не подбирать слова.
Джеймс с любопытством смотрит на отца.
— Тогда в Хогвартсе был Турнир трёх волшебников? Расскажешь?
Поттер охотно делится воспоминаниями, старательно обходит все ужасы мрачных событий, связанных с Волдемортом и Пожирателями смерти. Он рассказывает только хорошее: как переживал из-за ссоры с лучшим другом, а потом помирился с ним, и они стали дружить ещё сильнее, как проходил испытания, про Чёрное озеро и его водных обитателей, про мисс Чанг, студентку, которую я мельком увидел в его голове во время окклюменции на пятом курсе. Он всё-таки был в неё немножко влюблён, не только в меня. Я изумляюсь: неужели он никогда не говорил с сыном о своей жизни? Они вообще общались или только ругались всё это время?
Джеймс слушает внимательно, едва не заглядывая ему в рот, и я понимаю, что это чуть ли не единственный разговор по душам. Вздыхаю.
— Да. Была девочка, которая мне нравилась, — улыбается Гарри, — мы потом встречались совсем недолго. Словом, хорошо, что я её на бал не позвал.
Мальчик усмехается, потом доверительно сообщает:
— Мы с Марией на дискотеку ходили.
— Танцевали?
— Да.
Несколько секунд отец и сын смотрят друг на друга с улыбкой, потом Гарри мягко говорит:
— Девчонки, они такие… специфические. Я, конечно, не в обиду… Просто помню, как с твоей матерью… Ох, чего только не было! То я не так посмотрел, то не то подарил. Всегда было ощущение, что хожу по минному полю.
— Вот и у меня так же, — горячо соглашается Джеймс. — Никогда не знаешь, где рванёт.
— Хочешь совет? — Мальчик, подумав, кивает, и Гарри приободряется. — Не пытайся быть идеальным. Никто не идеален. Все мы совершаем ошибки. И девчонки тоже. Важно — как вы эти косяки вместе разруливаете. Главное быть честным с собой и с ней. Вы всегда можете поговорить. Если ты что-то сделал не так — признай. И не пытайся это как-то там… оправдать. Просто извинись. И скажи, что тебе важно, чтобы она знала, что ты её любишь.
— А если она меня не любит? Вот совсем не любит, пап!
— Ну, тогда… Тогда это, конечно, очень плохо. Но… значит, так должно быть. Значит, она не твоя судьба. Значит, где-то ждёт другая, которой ты будешь нужен таким, какой ты есть. Со всеми своими заскоками и ошибками. Поверь, Джейми, такое бывает. Я вот твою мать встретил… и понял, что всё, что было до этого — вообще ерунда какая-то.
Джеймс смотрит на отца печально, но уже без попытки в чём-то обвинить.
— Почему же вы тогда расстались?
Поттер долго молчит. Потом поднимает глаза на сына. У Джеймса глаза Джинни: глубоко карего оттенка, как крепкий чай или тёмное дерево. Гарри смотрит в них долго-долго, пока пауза не затягивается до невозможности. Потом говорит, тщательно подбирая слова:
— Между мной и твоей мамой была любовь. Она сделала меня по-настоящему счастливым, потому что подарила мне тебя, такого замечательного, самого лучшего на свете сына. Я благодарен ей за это. Это великий дар, иметь ребёнка, тебя. И ничто никогда не сможет отменить того факта, что мы — я и мама — твои родители. Это нерушимо и вечно. Ты рождён в любви, а всё, что было потом, — человеческие отношения и человеческие ошибки. Так случается. Но ты, — он осторожно дотрагивается до плеча мальчика, который смотрит на него во все глаза, — всегда останешься нашим сыном. И мы будем любить тебя вместе, схожей любовью. Понимаешь?
У Джеймса такой вид, будто он вот-вот бросится отцу на шею со слезами. Только осознание того, что он вроде как взрослый, удерживает его. Гарри чувствует это и мягко улыбается.
— Слушай, давай так. Завтра, если тебе совсем хреново будет, говори. Что-нибудь придумаем, вернём твою зазнобу. А если нет, то поедем куда-нибудь вместе, ну, на рыбалку, что ли. Посидим, помолчим… Или, хочешь, в город куда-нибудь скатаемся? По-магловски, на мотоцикле.
Джеймс слабо улыбается:
— Ладно. Спасибо, пап.
— Да чего уж там. Главное — не кисни. И помни: все мужики через это проходят. И ты пройдёшь. А я всегда рядом. Даже если и кажусь иногда старым пнём.
Джейми смеётся, а потом вдруг ненадолго приваливается к отцу плечом.
* * *
— Хорошо. Северус, можно спросить?
Мы сидим в кресле на крыльце белого дома и смотрим, как волны мерно накатывают на берег. Справа высятся поросшие травой песчаные дюны. На несколько миль вокруг нет ни души.
— Ты уже спрашиваешь.
— Ты ведь ангел? Тогда где твои крылья?
Выгибаю бровь.
— Поттер, ты неподражаем. Оскорбить ангела бестактным вопросом — это надо суметь.
Щёки его слегка розовеют.
— Мне безумно любопытно. — Он садится по-турецки в кресле, поднимает на меня пытливые глаза, и с него махом слетают все прожитые годы. Я снова вижу мальчишку лет двенадцати с широко открытыми глазами, готового поверить в чудо.
— Ангелы не прячут крылья в складках мантии и не складывают их за спиной, — произношу негромко. — Они их призывают.
— Какие они?
Я лишь улыбаюсь, разглядывая его распахнутые глаза цвета морских волн.
— Ты можешь призвать их? — не унимается Поттер.
— Не здесь. Давай отойдём.
Прибой шепчет что-то ласковое на морском языке, облизывая влажный песок. Кажется, мы стоим на самом краю мира, если не оглядываться назад, на деревню, робко выглядывающую из-за дюн крошечными домами.
— Отойди подальше, иначе толкну, — тихо предупреждаю я, и глаза Гарри делаются круглыми.
— Они такие большие?
Я только усмехаюсь уголком рта. Он поспешно делает шаг назад, потом под моим взглядом ещё один и ещё. Поскольку я продолжаю смотреть, он изумлённо вскрикивает.
— Не может быть! Ещё дальше?
— Я бы попросил тебя отойти к началу дюны, но, если тебе не хочется…
— Не хочется, — повторяет Поттер в нетерпении. Его глаза рассматривают меня чуть ли не с трепетом. — Давай же.
И он замирает, затаив дыхание.
Я медленно выпрямляюсь, чувствую, как воздух электризуется вокруг меня.
В следующий миг я будто притягиваю солнце. Оно, собрав лучи, разбрызгивает их веером прямо за моей спиной, и я чувствую, как разворачиваются гигантские сияющие белые крылья. Каждое перо, напитанное светом, переливается всеми оттенками белого — от молочного до ослепительно-серебристого. Они огромны, больше меня самого в несколько раз, и в своей мощи и красоте превосходят всё, когда-либо виденное человеком. Я разворачиваю оба крыла полностью. Заслонив полнеба, расправляются крепкие маховые перья, я чувствую, как ветер вибрирует в них потоками. Воздух гудит, взмётывается вихрь песка. Гарри, стоящего поодаль, толкает в грудь упругой воздушной волной, он делает шаг назад и закрывает лицо ладонью, но потом вскидывает голову, и я вижу слёзы на его глазах.
— Ты прекрасен, Северус! — кричит он. От восторга его голос становится звонким, мальчишеским, удивительно искренним. Всполошившиеся чайки шумно вспархивают с мелководья. — Ты — самый прекрасный, слышишь? Красивее тебя никого нет ни на этом, ни на том свете. Нигде! Ты веришь?
По загорелым щекам текут слёзы, которых Поттер не замечает. Он делает пьяный шаг вперёд и останавливается: он пьян моей красотой. Его лицо неописуемое, облитое ярким солнцем, исцелованное морским бризом. Он подходит совсем близко. Исполинская крылатая тень, очерченная солнцем на песке, накрывает его с головой. Словно во сне он протягивает руку.
— Можно?
Я качаю головой.
— Ты не сможешь прикоснуться. — Он тянется за мою спину, но его пальцы проходят сквозь прекрасное видение. — Крылья материальны только для меня.
— Тепло, — говорил Гарри, заворожённо глядя поверх моего плеча, а потом переводит взгляд и смотрит мне в глаза. На его щеках я вижу дорожки высохших слёз.
Рука несмело ложится мне на плечо, и он вздрагивает, когда пальцы упираются в мягкую чёрную ткань.
— Ну что, доволен? — спрашиваю довольно-таки ехидно, но он не реагирует.
Рука осторожно гладит меня по плечу, поднимается к щеке и осторожно касается. Я накрываю пальцами его запястье.
— Я не могу почувствовать этого, — произношу тихо.
— Да, я помню.
Качаю головой, потом закрываю глаза.
— Зато я чувствую другое.
Восторг и нежность, граничащие с болью. Благоговение, трепет, восхищение, экстаз. Всё, что ощущает он, чувствую и я — выдыхаю. Слишком много для ангела. Для человека.
Он всё ещё касается моего лица кончиками пальцев, но вот уже рука скользит вниз, к груди, и его голова тихо склоняется. Я уверенно обнимаю его за плечи, и это впервые, когда мне кажется естественным его обнять. Я слегка поддерживаю Гарри, и он снова вздрагивает, утыкается лбом мне в плечо и замирает. Руки его безвольно падают.
— У тебя кружится голова? — спрашиваю тихо. — Для человека это сложно. Мы сильно действуем на людей.
Он едва заметно кивает, а потом руки его оплетают мою талию осторожно и очень нежно.
— Кружится, — соглашается он. — Уже двадцать лет кружится, Северус.
Мы гуляем вечерами на побережье. Наши прогулки становятся обычным делом. Мог ли я подумать когда-то, что мне настолько понравится просто идти рядом с Гарри Поттером, неторопливо, бесцельно, слушать его разговоры о редакции, о том, как вчера отвергли чью-то статью и фотографии, и в издательстве был скандал. О том, какой потрясающий рисунок снова нарисовал Альбус, и как малышка Лили вчера построила песочный замок.
Я могу и вовсе не вслушиваться. Читаю глубже. Вижу его чувства и мысли, он как раскрытая книга, которая просит о прочтении. Гарри знает, что я читаю всё: и сокровенное, и стыдное, и лучшие, и худшие его стороны. Он не против быть передо мной таким, раскрытым и искренним. Не потому что иначе нельзя, не потому, что я — ангел — не контролирую свою магию, а потому, что сам желает этого. Увидев меня однажды, поняв, что я не жив, но всё равно рядом, он больше не хочет возвращаться в одиночество. Он счастлив тем, что я просто есть.
И это рождает такое тепло в моей душе, какое человеком я, наверное, испытывал лишь к Лили в далёком детстве. Я чувствую его радость всякий раз, когда он открывает с утра глаза и видит меня. Всякий раз, когда он просто натыкается на меня взглядом. Внутри него словно что-то ярко вспыхивает. Жаркое пламя будто поднимается откуда-то из глубин его горячего сердца, когда он смотрит на меня, а я это пламя ощущаю в собственной груди. Меня сжигает его страстью. Гарри изменился в один миг, стоило только осознать, что я — не плод его воображения, не его сумасшествие, не сон и не иллюзия, придуманная воспалённым мозгом. Сердце его теперь бьётся ровно, как у счастливых людей, а не как у смертников, доживающих свой век в тюремной камере.
— Когда ты понял, что влюблён в меня?
Гарри спотыкается, и я улыбаюсь. Он всё ещё слегка смущается, когда я задаю подобные вопросы прямо. Но я не вижу в этом ничего постыдного. Любой человек открыт перед ангелом, для нас это естественно: видеть их души, просматривать, как фильм.
Поттер некоторое время молча топчется на мелководье. Солёная вода мочит края его шорт, потом приходит особо высокая волна, и Гарри делает два больших шага назад, чтобы не оказаться мокрым по пояс. Я стою на месте. Вода задевает меня, колышет полы чёрного одеяния, но никак не может потревожить. Я как будто есть, но меня всё же нет.
— Какое это имеет значение? — после долгой паузы наконец спрашивает Гарри. На его лице красные пятна, он выглядит почти юным, словно ему снова семнадцать, а не тридцать три.
— Для тебя, наверное, никакого, и я могу это понять, — произношу совершенно спокойно, — но я недавно вспомнил, кто я есть, и то, что ты чувствуешь ко мне, полностью поменяло мою картину мира. Такую, какой я её помню. Мне всё время казалось… — Тут я запинаюсь и несколько секунд думаю, как сформулировать свою мысль. Но Поттер смотрит непривычно проницательно. Мне постоянно приходится напоминать себе, что он больше не мальчик, что для него прошло время, у него есть прошлое, которого я был лишён.
— Казалось, что тебя никто не может любить?
Я вздрагиваю. Хмурюсь. Проходит несколько наполненных шумом моря мгновений прежде, чем отваживаюсь ответить:
— Я бы не выразился столь драматично, но… Это недалеко от истины. Я — не слишком приятный человек и всегда был довольно отталкивающим.
Его улыбка печальна. Он чувствует сейчас такую нежность, что становится неловко: видеть и понимать его таким. Боль, которую он снова испытывает и которая стала для него привычной, отзывается невольным откликом.
Поттер скользит по мне взглядом, словно забывшись. Он часто вот так проваливается в себя. Его глаза становятся туманными, как осенние утра над Лондоном, я знаю, что сейчас он полностью поглощён воспоминаниями и эмоциями.
«Я рад, что ты здесь, Северус, — думает он, — рад, что ты просто рядом, что я слышу тебя, а не плод своего воображения или результат сна».
— Я здесь.
Не знаю, зачем я это говорю, но Поттер вдруг улыбается. Не припомню такую его улыбку в школе: несмелую, искреннюю, полностью открытую, без замысла что-либо утаить. Да и много ли я обращал внимания на его улыбки тогда? Всё больше удостаивался недовольных гримас, презрительных поначалу взглядов, а потом, казалось, ненависти и только. Теперь же — болезненного, выстраданного чувства. Оно отражается в глубине его глаз: я видел в воспоминаниях и до сих пор поражаюсь собственной слепоте.
— Думаю, я любил тебя с первой встречи.
Приподнимаю брови, и в его голове едва успевает оформиться мысль:
«Мерлин, как в Хогвартсе. Словно мне снова одиннадцать».
— Прямо с первой? Что ты мог понимать тогда, Поттер? — спрашиваю с изрядной долей сомнения, и он смеётся. Тихо, мягко, просто потому, что слышит мой голос.
Он весь высвеченный закатным солнцем, позолоченный теплом и светом. Руки в карманах шорт, футболку треплет тёплый ветер, и она хлопает сзади, как крылья, которых у него нет.
— Я думал об этом, Северус. Много, долго и довольно мучительно. Когда ты недолюбленный ребёнок, тебе непременно хочется всем нравиться. — Голос размерен, неспешен, таким он каждый вечер читает Питера Пэна своей дочери. Взгляд устремлён в морскую даль, за горизонт, к садящемуся солнцу. — Потому что тебя любят всегда только за что-то, и я привык к тому, что любовь нужно заслужить. Я рос в полном одиночестве, погружённым в себя настолько, насколько это вообще возможно. Это, думаю, и сыграло основную роль в том, что я не вырос озлобленным и жестоким. Иначе получили бы вы с Дамблдором ещё одного Тёмного Лорда.
Сначала я пытался завоевать тётю Петунью, дядю и брата. Но особенно тётю, потому что отчаянно нуждался в матери. Однако, как бы я ни старался, не выходило. Дадли всегда опережал меня. Если я рисовал открытку ей на день рождения, Дадли рисовал лучше. Если я старался её порадовать хорошими оценками в начальной школе, Дадли всегда ценился больше, хоть и не блистал в учёбе. Однажды я решил встать пораньше и сделать завтрак для тёти. Мне было шесть. Мне влетело за разбитые яйца и бардак на кухне. Я натирал до блеска столешницу и плиту, пока Дадли спокойно поглощал свой завтрак, окружённый вниманием своей семьи.
Моих усилий всегда было недостаточно. Так я и рос из года в год.
А потом начался Хогвартс. И все стали относиться ко мне с пониманием, сочувствием, обожанием. Кроме тебя. И как ты думаешь, Северус, чьего внимания я стал добиваться с новыми силами? — Поттер усмехается и искоса стреляет в меня взглядом.
— Неужели моего?
— О, ты себе представить не можешь, как я бесился. Я ненавидел тебя за то, что все меня любили, а ты — нет. И я не мог понять, почему. С тётей всё было ясно: у неё всегда был собственный сын, но ты! Ты сводил меня с ума придирками, и я каждый урок старался доказать тебе, что они совершенно напрасны. Я хороший! Я ведь знаменитый, я ведь, сам не зная того, с младенчества уже герой! Все так говорят, так почему же ты не согласен? — Он качает головой с улыбкой. — Твоё одобрение было для меня важным. Твой благосклонный взгляд грезился мне в мечтах. Мне воображалось, как ты внезапно разворачиваешься в своей стремительной манере, и необъятная мантия взмётывается вокруг чёрным всполохом. Ты подходишь к моему котлу на уроке зелий, глаза твои расширяются от изумления, а потом ты говоришь, что зелье получилось удивительным, единственно правильным, и что я, наконец, достоин пяти баллов для Гриффиндора.
— Ну и фантазии, Поттер.
Он смеётся уже звонко, по-мальчишески, запрокинув голову назад.
— Абсурд, да? Да я ни разу за шесть лет обучения не заработал на твоих уроках ни единого балла. И по Защите ты никак не выделял меня, хотя там мои желания уже изменились.
— Было бы любопытно послушать.
— Ты и так знаешь всё.
Гарри некоторое время наблюдает, как волны играются белыми барашками в отблесках вечерней зари. Солнце огненным, раскалённым шаром касается горизонта, расплёскивает последнюю охристую бронзу по мягким брюхам облаков и морскому вечно колышущемуся телу. Я смотрю в глаза человеку напротив. Человеку, который оказался «моим». Ему, Гарри Поттеру, который смог вернуть мне память. И вижу спокойствие.
Я не ожил, не воскрес. Меня по-прежнему нет, но он счастлив только тем, что видит меня, что слышит.
— Невероятно.
Слово срывается совершенно неожиданно, я не собирался говорить этого вслух. Всё это время мне казалось, что чувства его ненастоящие. Ну правда, как можно столько лет убиваться по умершему человеку, пусть и возлюбленному? В его жизни была любовь, дети, верные друзья. В ней было столько всего настоящего, мне не доступного ни при жизни, ни в посмертии, а он вот так просто и легко отказался от всего ради того, чтобы хранить свою любовь ко мне?
Что за абсурд! Что за немыслимая глупость? Каким нужно обладать сердцем, чтобы быть вот таким однолюбом на всю долгую жизнь?
А потом я понимаю, что смотрю в него, как в зеркало. Разве я сам не тянулся за единственным человеком в своей никчёмной жизни, который относился ко мне с теплом? Разве я не лелеял свою привязанность и любовь к его матери, несмотря на то, что со мной случалось? И его отчаянные попытки добиться во что бы то ни стало внимания объекта страсти я бы мог понять. Со мной случилось то же самое, и эта мысль поражает меня до глубины души. Она простая, на самой поверхности, но я почему-то думаю об этом только сейчас.
Мы не отрываем взгляда друг от друга, и мне кажется, что это не я, а он читает меня до самого дна души.
— В шестнадцать лет, Северус, я уже был настолько в тебя влюблён, что готов был отдать тебе вообще всё, чтобы ты ни попросил, — говорит Поттер откровенно, и взгляд его твёрд. — К тому моменту моя привязанность к тебе достигла абсолюта. Я успел столько передумать и столько осознать. Ты, не жалея и не щадя, признал меня равным. Ты никогда не говорил: «Ах, бедный мальчик, за что ему всё это?» Ты говорил: «Жизнь вообще несправедлива. Терпите, Поттер». И я терпел. Ты говорил: «Контролируйте сознание, дисциплинируйте ум». А не: «Оставьте в покое мальчика, он слишком много всего перенёс».
То, что ты спас меня на первом курсе, когда я полез под школу, чтобы вырвать из лап Волдеморта философский камень, изменило всё. Какими бы ни были твои истинные мотивы, ты спас мне жизнь. И это стало поворотным моментом. Я всегда был лишь сам по себе, я всегда справлялся со всем в одиночку, а тут ты: взрослый, неприступный, холодный, тот, от которого невозможно ждать помощи — и вдруг спасаешь меня, вырываешь бессознательного Поттера из лап смерти. Ты вообще представляешь, что я подумал, когда Дамблдор рассказал, кто именно вытащил меня на руках из-под школы? Мне было одиннадцать, и меня тогда поразило то, что ты сделал, что ты всё-таки рядом. Ты, который третировал меня весь год, единственный, кто не желал принимать меня, всегда был ближе, чем добрый директор, любящий сладости.
С тех пор я уже не мог считать тебя врагом. Да я бесился, да, ненавидел тебя от бессилия что-либо изменить, повернуть твою неприязнь ко мне в обратную сторону, как повернулась — резко и навечно — моя. Ты спасал меня неоднократно, в том числе и в самом конце: когда передал воспоминания. Без тебя я бы не разобрался. И разве сделал бы ты это, если бы не твоя привязанность к моей матери?
Поттер качает головой, смотрит так, будто его изнутри терзает тупая, застарелая боль, к которой со временем привыкаешь, но от этого она не становится слабее.
— Северус, мы связаны настолько сильно, что эта связь не могла не проснуться в одном из нас. Она проснулась во мне иррациональной любовью. Я вижу, как это произошло, я понимаю, что она — сложная смесь нездоровой привязанности, уважения, благодарности. Может быть, это вообще не та почва, на которой должно строиться настоящее чувство, но я уже ничего не могу изменить. Ты врос в меня так прочно, что выдернуть можно только с корнем. Вместе с моей душой.
— Ну хорошо, я понимаю, как могло возникнуть уважение, восхищение, чёрт с ним, — говорю запальчиво, — но любовь? Откуда эта чудовищная идеализация? Ведь ты же знал меня, ты ведь видел, как я к тебе отношусь. Что это за мазохизм такой: желать быть с человеком, который постоянно унижает и оскорбляет?
— Да, мне было нелегко. Я иногда сам не знал, люблю я тебя или ненавижу. Но мысли мои постоянно, неизменно были с тобой. Я думал о тебе всё время, и это меня одновременно и злило, и поддерживало. Это такая сложная смесь чувств… Я ведь не сразу понял, что люблю. Сначала мне казалось: ненавижу! — Он ухмыляется. — Так сильно, до одури, до темноты в глазах ненавижу, а потом мне плевать стало, что ты ранишь и кусаешь. Меня как будто переключило, и, знаешь, стало намного проще и легче, когда пришло понимание, что, в конце концов, со мной происходит. Я смотрел дальше. Я хорошо знал, почему это так. И уже после твоей смерти понял всё окончательно. Ты был одинок и несчастен. Ты был в ловушке между Дамблдором и Волдемортом, ты сам загнал себя туда. Ведь ты хотел отдать какие-то долги. Это перекрыло всё.
— То есть ты нашёл себе ещё один объект для спасения.
Гарри насмешливо выдыхает через нос, однако ухмылка тут же сходит с его губ.
— Конечно, я снова бросился спасать. Как же ты, мой непонятый, недолюбленный профессор, такой вредный и сварливый от недостатка внимания в жизни, останешься без моей помощи?
Он улыбается мне так спокойно, слово доброму другу, и я решаюсь задать ещё один вопрос, волнующий меня слишком давно:
— Откуда взялось вожделение? Я видел достаточно в твоём прошлом и настоящем, чтобы понять: оно есть и сейчас.
Спрашиваю прямо и откровенно. Щёки его слегка краснеют, и я дотрагиваюсь до его руки, посылаю волну спокойствия.
— Как ты это делаешь? — спрашивает он вдруг.
— Что ты почувствовал? — Мне всегда было интересно, как люди ощущают прикосновения нашей магии.
— Меня как будто завернули в мягкое одеяло и напоили горячим чаем. Это твоя магия так действует?
Киваю.
— Я спрашиваю тебя об этом, потому что хочу понять. Не из праздного любопытства и без желания оскорбить. Мне важно разобраться.
Он кивает.
Внутри него разгорается волнение, выражающееся только в чуть подрагивающих пальцах рук, которые он не отнимает, и глазах. Они не могут обмануть. Не его глаза.
— Вожделение? — переспрашивает он. И я мгновенно вспоминаю сцену, подсмотренную в его воспоминаниях.
Тёмная спальня и девичьи сладкие стоны, робкие, тонкие, похожие на стоны боли. Его руки, скользящие по гибкому, выгнутому дугой телу, и срывающийся страстный шёпот — какие-то милые глупости, признания, заверения в любви. Ускоряется темп движений тел, выгибается сильное тело, голова запрокидывается на пике пронзающего удовольствия, и с его губ слетает неслышное для Джинни Уизли, но слышное для меня:
— Северус…
Если б я мог покраснеть, это бы случилось. Чуть ли не впервые со времён моей юности, когда меня подвесили вверх ногами и выставили на всеобщее обозрение нижнее бельё. Гарри, склонив голову к плечу, внимательно разглядывает выражение моего лица.
— Насколько полно ты видел мою жизнь?
По тому, как я молчу, он делает правильные выводы и тянет, слегка смутившись:
— Ясно… Мне нечем гордиться. — Потом не выдерживает, отворачивается и прячет лицо в ладонях. — О, Мерлин…
Одним шагом сокращаю расстояние, разделяющее нас, беру его за руки снова, отвожу их от лица. Оно пылает. Наверное, пальцы у него холодные: солнце уже село, вода в море всё ещё лижет наши ноги. Но я не чувствую его дрожи, которую вижу, не чувствую того, как он замёрз в одиночестве за столько лет. Но зато я могу ощутить, как затрепетала его душа, от этого прикосновения.
— Это человеческая природа, Гарри: желать того, кого любишь. Она не спрашивает, когда ей проснуться.
— Боже, Северус, прекрати, я сейчас сквозь землю провалюсь.
— Объясни мне, — прошу настойчиво, — объясни, потому что я не понимаю. Ничего не утаивай: ты всё равно не сможешь.
Он ещё некоторое время просто наслаждается тем, что его руки в моих, потом поднимает на меня решительный взор. В глазах нет ни капли той неловкости, которую он ощущает на самом деле.
— Касательно вожделения, Северус, ты даже представить себе не можешь, о чём я думал в шестнадцать лет. Какие фантазии меня посещали. Мне казалось, ещё немного, и я наброшусь на тебя прямо посреди завтрака в Большом зале или в аудитории по Защите от Тёмных Искусств. Ты стоял возле доски, рассказывал что-то о защитных заклинаниях, а я от одного твоего голоса готов был… Вот была бы сенсация, правда?
Не верю ни на грош его улыбке и лёгкому смеху, потому что внутри у него всё дрожит от страха. Вспоминаю, что его руки всё ещё лежат безвольно у меня в руках, и сжимаю пальцы.
Поттер вздыхает, его взгляд медленно вычерчивает на мне свой путь, он долго рассматривает моё лицо и шею. Думает о чём-то, не успевающем оформиться в ясные мысли, потом поднимает руку и невесомо, очень осторожно дотрагивается до кончиков моих волос на плече. Словно бы это — единственное, что ему позволено, и вместе с тем, это уже настолько ценно и много для человека, у которого раньше не было совсем ничего.
Меня этот простой жест трогает до глубины души.
— Идеализация… Разве сложно превозносить того, кого нет на свете? Ты и сам можешь ответить на этот вопрос. А что до любви, моей к тебе безумной, безнадёжной любви, — продолжает он, рассматривая лунные блики на моих волосах и пряча от меня глаза, хотя это вообще-то глупо: я вижу в нём всё без всяких слов. Пальцы его исчезают из моей руки, он подносит их к вороту своей футболки и слегка его оттягивает. — Так я уже и не помню, как это: жить без этого чувства к тебе. Оно было всегда со мной.
«Он принимал меня любым. Злым, раздражённым, ненавидящим, пренебрегающим им. Он все равно любил меня. Пусть это была неправильная, странная, больная любовь. Додуманная и дофантазированная бессонными ночами. Но она была ко мне. Ко мне! Через столько лет…»
Осознание бьёт меня в грудь так неожиданно, что я даже делаю маленький шаг назад, но потом сразу же возвращаюсь обратно. Решительно протягиваю руки приподнимаю его лицо. Оно оказывается в ложе из моих ладоней.
— Взгляни на меня.
Гарри вздрагивает всем телом. Да, я помню, при каких обстоятельствах он слышал эти слова от меня в последний раз. Дожидаюсь, пока он справится с собой и поднимет на меня взгляд.
— За эти пятнадцать лет я видел столько человеческих судеб, столько жизней прошло перед моими глазами, что некоторые вещи представляются мне совсем иначе теперь. При жизни я презирал любовь. Мне казалось, что это обуза, делающая людей мягкотелыми и уязвимыми. Но сейчас я вижу тебя. И я ни за что не назвал бы тебя слабым. Да, может быть ты запутался, наворотил сполна, но я не видел ни одного человека, Поттер, кто бы прожил жизнь и не ошибся ни разу. Это невозможно. Не ошибаются только мертвецы. Прости себя, наконец.
Он качает головой. На губах его печаль.
— Я принёс слишком много боли близким людям. Особенно Джинни. Я вёл себя с ней, как последняя скотина. И моя любовь меня никак не оправдывает.
— Не оправдывает, — соглашаюсь жёстко, — но ты можешь попросить прощения. Ты ведь даже не пытался.
«Мне кажется, во мне больше ничего не осталось, кроме тебя».
Качаю головой.
— В тебе много всего. Ты ещё это ощутишь.
Его руки ложатся ко мне на плечи. Я выпускаю его лицо, чувствую, насколько ему хочется обнять меня, но он снова лишь проводит пальцами по моим волосам.
— Я любил их в тебе.
Гарри вдруг бросает на меня лукавый взгляд.
— Волосы?
Я вижу в нём отчётливое желание приникнуть ко мне всем телом, оно такое сильное, что он просто ни о чём не может больше думать. Я замираю. Мне интересно, сможет ли Гарри сделать это… Но нет, он лишь осторожно снимает руки с моих плеч.
— Волосы. Я любил смотреть на них. Мне было всё равно, как они выглядели. Мне казалось, что они очень мягкие на ощупь. А сейчас я вижу их такими красивыми.
— По-моему у тебя мысли путаются от избытка чувств, — насмешливо говорю я, и он соглашается.
Мы идём вдоль неровной кромки морского побережья. Справа по-прежнему темнеют песчаные дюны. Поттер держит шлёпанцы в руке, ноги его вязнут в солёном песке, на руках мурашки: ему холодно, но выходить из воды он отказывается. Ночь накрывает прохладой и ветром. Медленно плывут по тёмному небу исполинские тени — это тучи сгущаются, готовятся разразиться проливным дождём, который к рассвету перейдёт в мелкую морось и серость. Лили будет завтра бегать по прибитому влагой песку и радоваться тому, что песочные замки можно построить прямо возле крыльца. Джеймс не то расстроится, не то наоборот: он всё ещё не помирился с Марией, и есть повод снова не идти в бар её отца из-за непогоды, потому что он не придумал слов, которые должен сказать. Ал нарисует ещё один морской пейзаж с бордовым небом и оранжевым песком. А Гарри проснётся рано-рано, и снова станет искать меня глазами в страхе, что всё это был сон, что всё ему пригрезилось.
Он идёт чуть впереди, я рассматриваю его стройную фигуру. Широкие плечи, тренированные руки, узкие бёдра, и меня вдруг посещает горячечное воспоминание о том, как он воображал меня и себя, вдвоём, в одной кровати. Мои руки скользили по его телу, в то время как его ладонь сжимала член. И раскрытые губы на выдохе, и непереносимая мука в глазах после яркого оргазма: не настоящее!
Мне становится невыносимо от того, что Гарри, спасший мир от Тёмного Лорда, Гарри, который больше всех в этой жизни заслуживал счастья, так одинок.
И следом приходит ещё одна мысль: а я? А моя душа не заслуживает счастья после всего, что перенёс я?
Несправедливость жизни, о которой далёкие семнадцать лет назад я говорил Гарри Поттеру в своём кабинете зелий посреди ночи, снова обретает смысл. Моя собственная человеческая жизнь, которая давно утратила ценность, внезапно снова становится центром вселенной, и я впервые так сильно жалею о том, что не разрешал себе чувствовать. Что, если бы всё сложилось иначе? Что, если бы я заметил влюблённость Гарри Поттера и смог пережить этот шок, принять его чувства? Неужели и тогда я сдался бы так просто, умер бы, оставив его одного в страданиях?
Сложно размышлять об этом. У меня путаются мысли. То, что он был много лет в меня влюблён — до сих пор какая-то фантасмагория, не иначе! Все причины и объяснения, откровения, которым мы посвятили столько времени, выглядят убедительно, но я не могу поверить до конца. Почему?
«Потому что у тебя, Снейп, никогда не было столько душевного тепла и благородства, чтобы любить кого-то просто потому, что он живёт на этом свете. Его не отпугнул ни вздорный характер, ни откровенная озлобленность, ни многолетняя вражда. Он смог объяснить себе всё это, каким-то образом пережить и любить дальше. Любить меня. Такого, каким я был».
— Как же тебе было нелегко, — произношу я тихо, в надежде, что Гарри не услышит. Но он оборачивается — тёмный силуэт на фоне неба.
— На самом деле это было даже забавно. Все влюблялись в своих однокурсников. А я просыпался каждое утро со стояком до носа, и если бы хоть кто-то узнал, кто мне снится ночами… — Усмехаюсь, Гарри с улыбкой качает головой. — Это было на шестом курсе. Тогда я жил в ужасном раздрае: профессор, который терпеть меня не может, и Джинни — такая близкая и понятная, простая. Совсем рядом. Вот она, бери её… — Он вздыхает с искренним сожалением и печалью. — Мне было шестнадцать, я только что осознал, что влюблён в своего профессора зелий, что у меня нет никаких шансов, и что я, наверное, не слишком нормальный, раз это произошло. Я так желал тебя, чего только ни думал…
— И ты встречался тогда с мисс Уизли?
— Я был подростком. Предмет моих грёз был недоступен, и я решил жить дальше. А она всегда интересовалась мной. Это много позже я понял, что сердце не обманешь, и телу не всё равно, с кем вступать в сексуальную связь. Мне не удалось себя обмануть.
Вспоминаю историю с Марком, и становится неловко.
— А твой друг? — спрашиваю я чуть резче, чем следовало. — Как же теперь он?
Гарри молчит недолго, выходя всё же из моря и грея ноги в сухом песке. Потом ложится на спину на тёплые маленькие холмики, смотрит в чёрное от туч небо.
— Марк во мне разочарован. Он вряд ли ещё появится. Да и я не смогу больше поддерживать отношения с ним. Он так долго меня ждал, а я ничего никогда не мог дать ему. Все, кто меня любит, или умирают, или страдают, Северус. Я больше не стану строить отношения ни с кем. Наверное я просто на это не способен.
Опускаюсь рядом, чувствую, как тугая печаль скручивает его изнутри, но ничего не могу с этим поделать. Поттер выбрал для себя такую жизнь.
— Вырастут дети, я стану стариком и так и умру один, — усмехается Гарри в рокочущее небо. — Достойный конец для героя. И расплата мне за всё, что я причинил близким.
Вдруг он, извернувшись, кладёт голову мне на ноги, обнимает крепко мои колени, зажмуривается и шепчет:
— Ты только не исчезай снова, Северус. Я согласен жить в безумии. Ты ведь теперь всегда будешь со мной?
Я молчу так долго, что он перестаёт ждать ответа. Грудь болит, как если бы меня поразила отравленная стрела. Поттер обнимает мои ноги, сминая в руках волшебную ткань моего чёрного одеяния, и я опускаю широкую ладонь ему на растрёпанную макушку. Пальцы не чувствуют волос и тепла, и изнутри поднимается мощная волна разочарования.
Я так хочу ощутить его хоть на мгновение. Но не могу. Мне не дано.
Глаза его закрываются от наслаждения. Он льнёт ко мне всем своим естеством, его магия, взметнувшись, разливается вокруг неконтролируемой волной.
— Ты сейчас заснёшь. Идём обратно.
Он только глубже зарывается носом в складки у меня на коленях.
— Ещё чуть-чуть, Северус. Давай побудем вот так, пожалуйста. Чуть-чуть.
* * *
— Северус, ты можешь что-то рассказать мне о твоей ангельской жизни? — вдруг спрашивает Поттер.
Прошло два дня, и мы снова гуляем по побережью.
— Я имею в виду, чем ты занимался все эти годы? Спасал людей?
Я на мгновение задумываюсь. Пятнадцать лет моя душа ходит по земле, и если бы я не вспомнил свою человеческую жизнь, то так и не смог бы ответить на этот вопрос.
— Мы не спасители, мы проводники. Но сейчас я понимаю, что это не совсем так. Лишь некоторые души перерождаются в ангелов, а значит, у этого есть какая-то причина. Я полагаю, дело в земной жизни. Она напрямую связана с тем, становится душа ангельской или нет. У нас у всех есть неразрешённое бремя, ошибки, которые не смыты ни кровью, ни раскаяньем. Они должны быть искуплены иначе.
— Ты сделал всё, что мог, — тихо произносит Гарри. Ноги его целуют пенистые волны.
Качаю головой.
— Я тебя не спас. Теперь я вижу это ясно. И то, что из всех людей на земле именно ты разбудил мою память, говорит о многом. Теперь мне предстоит понять, как двинуться дальше.
— Дальше?
От стройной, высвеченной солнцем фигуры веет тревогой. Он рассеянно смотрит, как я стою на воде, как его ноги тонут в песке, а я парю в дюйме от морской поверхности.
— Выполнив свой долг, ангел идёт по Сияющей Тропе. Только разобраться в том, в чём же состоит задача, невероятно трудно. Мне понадобилось пятнадцать лет, чтобы найти тебя, но я до сих пор не понимаю, что я должен сделать.
— А после того, как выполнишь эту задачу, ты снова исчезнешь?
— Вероятно.
— Тогда я не хочу быть спасённым. Не спасай меня, Северус.
Только тихий плеск волн и отдалённые крики чаек слышны в горьком молчании. Солнце, скрывшееся за плотным пологом туч, больше не появляется, и мир становится тускло-серым в предгрозовом мареве жары.
— Спасать… — произношу негромко и задумчиво. — Теперь я понимаю, почему меня так тянуло вытаскивать всех с того света. Я привык кого-то спасать, и это перенеслось в моё посмертие. Но мне спасти тебя помешала собственная ненависть. А тебе быть спасённым помешала…
Через секунду Гарри заканчивает:
— Любовь.
Он произносит это слово так легко и просто, словно оно совсем ничего не значит и в то же время означает всё. Я смотрю на него внимательно и цепко, и уголки губ его слегка приподнимаются.
— Ты ведь давно знаешь, правда? К чему тогда такой изумлённый вид?
Я отвожу взгляд.
— Никак не привыкну.
И вправду глупо. У Гарри красные щёки и нежная улыбка, которые не вяжутся с его возрастом. Но душе все равно, сколько лет телу, она остаётся одинаково юной и в двадцать, и в восемьдесят. Зелёные глаза яркие, живые, полные нестерпимым, болезненным чувством. Я читаю в нём желание человеческого тела, и как только он это осознаёт, опускает взгляд.
— И как только тебя угораздило, Поттер? — спрашиваю насмешливо.
— Тебе рассказать это снова?
Он смеётся, глядя на синие тучи, стремительно сгущающиеся в небесах.
— Мне следовало признаться тебе ещё на шестом курсе. До всей этой истории с крестражами и вообще. Быть может, у нас было бы немного времени.
— Представляю себе эту картину, — улыбка моя становится шире. Он оборачивается и говорит, глядя мне в глаза:
— Профессор Снейп, я вас люблю.
Как искренне и прямо. Как серьёзно. По-поттеровски. Качаю головой.
— Я бы не поверил тебе тогда.
Гарри кивает и улыбается всё так же нежно, но глаза темнеют.
— А сейчас?
В той паузе, что следует за вопросом, ощущаю ужасное волнение в его душе. Глупый, разве могу я усомниться хоть на мгновение, после того, что уже видел и слышал? Но он — человек. Людям свойственны сердечные метания.
— Я вижу это. Вижу всего тебя. Ты же знаешь.
«Боже, Северус, как я хочу тебя обнять...»
— Так обними.
В лице Поттера неописуемая смесь чувств!
— Ты позволяешь?
Протягиваю к нему свои ладони, и он подаётся вперёд. Так робкий вьюнок льнёт к стволу дерева, испуганный своей хрупкостью. Я вижу вихрастую голову с редкими нитями седины, доверчиво склонённую, и его дрожащие ладони, но ничего не чувствую. Прикосновение людей ощутить у меня власти нет! Пальцы скользят по гладкой ткани мантии, робко касаются шеи, а потом ложатся на плечи. Он приникает всем телом, но я не чувствую ни тепла, исходящего от него, ни его дыхания. Теперь, когда я вспомнил, как это, быть живым, мне внезапно хочется всё это ощутить. Вокруг витает неконтролируемый магический поток, он золотыми нитями оплетает его и меня, касается ласково и отпускает тут же, словно испугавшись. Закрываю глаза и растворяюсь в Гарри.
Мир, ещё секунду назад казавшийся тусклым, безжизненным полотном, вдруг вспыхивает ярчайшими красками. Дыхание у него перехватывает, словно кто-то сжимает грудную клетку стальными тисками. В глазах щиплет, он с силой жмурится от невероятной, невыносимой боли, осевшей в душе за эти годы, а теперь никак не желающей уходить.
«Живой. Настоящий. Северус. Северус», — бьётся у него в мыслях. Он повторяет моё имя, как молитву, как будто не может остановиться.
— Не такой уж я и живой.
Гарри так близко, совсем не такой, каким я запомнил в его семнадцать. Шире в плечах, чуть выше, лицо обветренное, растерявшее юношескую нежность, но взгляд всё тот же: будто желающий выпить весь мир одним глотком. Каждый мускул тела напряжён, ноги не слушаются, подгибаются. И липкий страх — глупый, иррациональный: что если это всего лишь сон, жестокая игра воображения?
«Твои руки. Сильные, крепкие, знакомые, родные. Я не знал их прикосновений, но как же часто мечтал о них...»
Я обнимаю крепче, так, как ему хочется, прижимаю его к себе, крепко поддерживаю, позволяю на себя опереться. Он чувствует, и я чувствую вместе с ним, как в этот момент всё остальное перестаёт существовать, как остаются только мои руки на его спине и удары его сердца — сильные, отчаянные. А под его сомкнутыми веками множатся непролитые слёзы, но тут же исчезают, и я слышу лишь его прерывистое дыхание.
Повинуясь внезапному порыву, прижимаю его к себе так, что он тихо вскрикивает, перехватываю крепко-накрепко.
— Держись, — предупреждаю и, прежде чем Гарри успевает что-то сказать или подумать, распускаю крылья.
Два исполинских, наполненных светом крыла разворачиваются за моей спиной, водная гладь рябит и идёт волнами от мощного удара, маховые перья гудят от вибрации воздуха.
— Северус! — вскрикивает Поттер, вцепившись мне в шею, но мы уже оторвались от земли. Крылья делают три мощных взмаха, а потом наполняются волшебством, и я быстро набираю высоту.
Под ногами — стремительно удаляющаяся земля и береговая линия, Гарри смотрит вверх, на грозовые тучи, приближающиеся сплошной стеной.
— Северус!! — ещё раз зовёт он, но теперь я слышу в его голосе восторженные нотки.
Упруго толкнув воздух, одним махом я поднимаюсь ещё выше, и мы, минуя грань ненастных, низких облаков, оказываемся над ними, в лучах ослепительного солнца, над ватно-перистой, белоснежной равниной.
Раскинув в стороны сияющие крылья, я зависаю на месте, призываю магию, которая обвивает нас обоих сплошным потоком. Мы зависаем посреди необъятного небесного пространства, и я бросаю взгляд вниз.
— Не бойся. Я держу тебя.
Гарри переводит на меня взгляд абсолютно пьяных глаз, полных красотой и восторгом до дна. Он обхватил меня ногами за талию и обнял руками за шею, держится крепко, как обезьянка, но я совсем не чувствую его веса. Между мной и им вообще нет пространства, и я снова ощущаю острое сожаление от того, что не могу почувствовать касание его тела.
— Я не боюсь, — говорит он в дюйме от моего лица.
На секунду я замираю, поражённый силой его чувств, а потом наклоняю голову и…
Пусть это сумасшествие, я не против. Пусть это судьба — так чего же я так долго ждал? Пусть этого никогда не должно было случиться — наплевать!
Я целую яркие искусанные губы. Он перестаёт дышать, подбирается с трепетом в моих руках, а потом яростно отвечает. Отвечает так, что на мгновение у него слабеют руки, и мне приходится крепче прижать его к себе.
Раздаётся мощный раскат грома, где-то под нами набирает обороты гроза. Шквал эмоций, бушующий и мощный, сносит напрочь, и я теряюсь в нём, как в бесконечном пёстром мельтешении, ярком, недоступном никому, кроме меня.
А потом всё разом заканчивается. Гарри обмякает у меня в руках, теряет сознание. Поцелуй ангела просто так не проходит для человека. Руки бессильно разжимаются, черноволосая голова запрокидывается, он висит бессильно, выгнутый дугой. Я скольжу взглядом по беззащитному горлу, острой линии скул и осторожно перехватываю по-прежнему ничего не весящее тело.
Потом опускаюсь на землю.
Моя смерть случилась вовремя. Тот, кто держит в руках людские судьбы, точно знает, как нужно действовать, чтобы всё получилось правильно.
И теперь я понимаю: я умер для того, чтобы узнать: я любим.
А он всё время страдал для того, чтобы обрести счастье.
Chapter 10: О колесе, мягкой перине и шаге в жизнь
Chapter Text
Город расстилается внизу, словно драгоценные камни на бархатной ткани. Он превращается в живую, пульсирующую карту, сотканную из огней и теней. Темза — чёрная лента — пронизывает ночной пейзаж нитью, отражает в своих водах мерцающие огни городских набережных и мостов. Эти огни создают причудливый узор на дрожащей водной глади реки. Слева, над Вестминстерским дворцом возвышается Биг-Бен, освещает светом окрестности. Город, как россыпь звёзд, брошенных на землю: движется, играет, светится и переливается. Ползут автомобили по змеям дорог, змеи эти сплетаются, расходятся, вьются по необъятному, уходящему вдаль живописному полотну, полному сияющих красок и огней.
Стою в самом сердце Лондона. В месте, известном на весь мир. Сверху и снизу медленно плывут стеклянные кабинки, а прямо передо мной — чёрная, сверкающая гладь реки, широкой и живой. Если прислушаться хорошенько, я могу уловить её мерное, спокойное дыхание. Река, помнящая не одно столетие, бессмертная. Она будет течь, наверное, и когда её берега уже не будут скованы бетонными набережными Лондона, и много позже, когда и людей-то не останется на земле, и мир изменится настолько, что невозможно себе это вообразить.
Когда-то очень давно, ещё на заре моей бытности ангелом, Люпин рассказал мне историю.
Был Ангел. И полюбил он девушку. Любовь его была так сильна, что он отказался ради неё от вечности, вырвал крылья из своей спины и обрёл человеческую жизнь. Ангел лишил себя посмертия, умерев. Он бросился с крыши высотного здания и очнулся человеком. Они прожили вместе целую счастливую жизнь, родили детей, вырастили их, увидели внуков, а когда девушка умерла, он сбросился с той же крыши ещё раз, чтобы боль не терзала его сердце.
Я тогда спросил Люпина, правда ли это? И он ответил:
— Почему бы и нет, Триста Девяносто Четвёртый? Он любит не только людей, но и нас, ведь мы — тоже Его дети. И наделены свободой воли. Мы можем выбирать…
Открываю глаза.
Мир покачивает меня, словно в огромной колыбели: вверх и вниз, плавно, слегка, почти неощутимо. Мне кажется, приподнимается всей земной громадой и опускается, как исполинская грудь огромного, невообразимого существа. И я ощущаю это дыхание всем несуществующим телом, всей существующей душой: мощное, мерное спокойное.
Что Ему до одной человеческой судьбы, не закончившейся после смерти? Что Ему до любви одного человека, который умирает живым прямо сейчас, день за днём в этом солнечном, прекрасном, созданном для жизни мире? А может быть, мы и закончили свой путь, каждый по-своему, чтобы возродиться заново?
Вопросы, вопросы… Решения, решения…
Смотрю вниз.
Подо мной узкая набережная и бьющиеся о бетонные берега волны реки. Я парю прямо в центре огромного колеса, которое медленно вращается, поднимая и опуская людей со всего света, которые приходят сюда, чтобы увидеть столицу Англии с высоты птичьего полёта — неспящую, живую, сверкающую.
Зачем ты здесь, Северус? Ты думал, твой конец — на холодном полу Визжащей хижины, в луже подсыхающей крови, в руках отчаянного мальчишки, смотрящего на тебя её глазами? А он — вот здесь: на пронизывающем холодном ветру, в небесах, в сердце города, в самом центре «всевидящего ока» — как символично. Все эти люди, катающиеся на аттракционе, увидят твоё распростёртое, окровавленное тело. А может быть, всё будет ещё хуже: перед твоими ногами развернётся Сияющая Тропа…
Что, если цель твоего посмертия — узнать, что был кому-то нужен? Что, если тебе не дадут тот пресловутый второй шанс, который по законам сентиментального жанра положен всем раскаявшимся и влюблённым?
Но разве ты влюблён? Это Гарри Поттер уничтожил свою жизнь из-за тебя, из-за себя, из-за своих абсурдных желаний. Что будешь делать ты, если окажется: он тебе не нужен? Как ты — одиночка до глубины души — будешь жить в этом мире, который покинул много лет назад? Сможешь снова быть один, когда тебе теперь известно, что есть человек, любящий тебя до саморазрушения?
Опускаюсь чуть ниже, касаюсь босыми ногами поверхности махового механизма, на котором держится огромное колесо обозрения. Кажется, я уже стоял здесь когда-то давно. Ещё до того, как встретил Гарри Поттера снова, до того, как узнал себя и его. Всего две недели, а кажется — целая жизнь прошла.
Во все стороны за моей спиной расходятся металлические спицы, на концах которых — по кабинке с людьми. Они смотрят на город, улыбаются, живут свои человеческие жизни. Это маглы. Они даже не догадываются, что рядом есть ещё один мир, где тоже живут люди, но с волшебством в руках, такие же, но совсем другие. Они чувствуют холод и зной, они знают, как это, когда дождь касается их лиц, они могут ощутить прикосновение любимого человека.
Или того, кто их любит.
Разве это стыдно — хотеть любви? Разве зазорно желать для себя кого-то, кто тебя боготворит? Это ценность, величайшее богатство — ласковый взгляд, нежное объятие, обычный разговор, где тебя невзначай называют дорогим и любимым. Просыпаться по утрам в постели с тем, к кому хотелось бы прижиматься ночью. Разделить завтрак с этим человеком. Поссориться с ним, а потом помириться. Назвать тысячу причин, почему он тебя раздражает, и тут же тысячу раз признаться в любви. Завести с ним собаку, завести с ним детей, вырастить их, любить друг друга до самой старости, а потом встретиться душами и в посмертии…
Я вспоминаю восемнадцатилетнего Поттера на моей могиле, пьяного, совершенно раздавленного, и потом снова его же, всего несколько часов назад:
— Погоди немного, Северус. Давай побудем вот так, чуть-чуть… — Растрёпанная, приласканная ветром голова на моих коленях. Он весь такой доверчивый, такой мой…
Немыслимо, но я стал называть его своим. Когда это случилось? Не помню. Наверное, когда пришло окончательное осознание того, что он в меня влюблён, что он всё это время… Всё это время!
Готов, Снейп?
Смотрю себе под ноги в бушующее ветром разверзнутое ничто. До земли далеко, успеешь испугаться, или твои намерения останутся тверды?
Быть ангелом.
Что это для меня значило? Не больше, чем служение Волдеморту или Дамблдору. Ни одному из них я не был предан по своей воле. Никому не был предан и в посмертии — только себе. Когда пытался спасти людей, когда терпел неудачи в этом, когда не понимал, зачем я здесь, замерший между небом и землёй, не то живой, не то мёртвый. День за днём, год за годом ищущий чего-то.
Моя непрекращающаяся агония, мои метания, моя беспричинная злость — всё обрело смысл в белом доме, лишь стоило увидеть Гарри. Он вышел на крыльцо одним прохладным утром на рассвете, и я понял, почему я крылат.
Поднимаю взгляд в чёрное, такое пронзительно звёздное небо. Волшебники не верят в Бога, всемогущие, они поразительно невежественны.
— Надеюсь, я разгадал правильно, — произношу, и ветер тот час уносит мои слова. — Ты ведь это задумал? Гарри отдал всё ради меня, и я теперь тоже должен чем-то пожертвовать?
И в этот момент мне становится до смешного по-человечески страшно. Земля далеко, успею испугаться. И вместе с тем я вдруг отчётливо понимаю, что сделаю это. Где моя точка невозврата? Пройдена. В тот самый миг, когда я решился протянуть руку к его плечу.
Хочу взять всё или уйти по Сияющей Тропе. Если уйду окончательно, Гарри справится. Он сильный. Намного сильнее меня.
Зажмуриваюсь, чтобы не видеть приближающейся земли. Внутри меня всё скручивается от страха, но я лишь расправляю плечи. Встряхиваю головой, ветер не тревожит мои волосы, я не чувствую его порывов, и — смешно! — это становится последней каплей.
Хочу чувствовать. Хочу, наконец, жить. Хоть в этом коротком мгновении — в полёте от неба до земли.
Шаг вперёд даётся с большим трудом, и мне кажется, что это не меня столь стремительно притягивает земная твердь, что не у меня в ушах свистит ветер, что не мне в лицо упругими струями бьёт воздух. Едва потеряв шаткую опору под ногами, я лечу вниз, и мне настолько страшно, что инстинктивно я призываю крылья. Они являются. Призрачные, сияющие, белоснежные. Однако воздух не гудит и не вибрирует в их перьях, а проходит насквозь, совсем не встречая сопротивления.
Я отчаянно делаю взмах, потом ещё один. Невозможно! Перед глазами встаёт образ, как я, держа на руках Гарри, взмывал в грозовое небо.
Остаётся совсем немного до твёрдой поверхности освещённой фонарями набережной, но крылья не подчиняются. Распростёртые, они в последний раз ловят поток воздуха, мельчайшие пылинки, лунные блики в мягкие перья, и исчезают, растворившись в пространстве.
И приходит чудовищная боль.
А потом тьма.
* * *
Сияющая Тропа не разворачивается передо мной.
Я лежу на чём-то липком, до ужаса холодном, вдыхаю запах воды и мокрого асфальта, понимаю, что не могу пошевелиться. Тело отказывается подчиняться, и я могу только хрипло застонать.
— Иисусе! — доносится под ухом. — Сэр, вы целы?
Болит всё сразу: ноги, руки, голова, всё тело. Такое ощущение, что меня переехал поезд. Открываю глаза со второго раза, всё расплывается и странно мерцает.
— Вы меня слышите? — снова спрашивает кто-то. — Сэр, я врач, мы уже вызвали неотложку. Лежите, у вас сломана рука.
Кто-то громким шёпотом спрашивает:
— Обалдеть, как он вообще остался жив?
Неимоверным усилием приподнимаю голову. Вижу только ноги обступившей меня толпы и красную взволнованную физиономию того самого врача. Он склонился надо мной, стоит коленями на мокром после дождя асфальте. Вокруг ещё столпились любопытные. Над головой медленно вращается Лондонский глаз. Я тут же понимаю, о чём шла речь: боль от кисти до локтя в правой руке простреливает так неожиданно, что я снова вскрикиваю, а потом понимаю...
Боль! Я чувствую боль. Не обращая внимания на увещевания доктора, сажусь. Голова кружится страшно. Земля качается подо мной, как на качелях, ужасно тошнит, и я подаюсь вперёд.
Ну, чего ещё можно было ожидать: меня рвёт желчью. Я же ничего не ел пятнадцать лет. Облегчение почти не наступает. Плохо так, будто я пил неделю, не просыхая. Я пытаюсь сесть, но заваливаюсь на бок и снова кричу: упал прямо на сломанную руку.
— Осторожнее, сэр.
Меня кто-то поддерживает за плечи и настойчиво укладывает обратно на тротуар, но я не поддаюсь.
— Мне надо идти.
— Вам нельзя двигаться! — сердится доктор. Я, наконец, фокусирую на нём взгляд: лысеющий мужчина средних лет, полный, добродушного вида. Возле него вертится мелкая собачонка, с любопытством обнюхивая собравшихся. — Вы упали с высоты ста пятидесяти футов. Вы просто счастливчик, что выжили! У вас могут быть внутренние повреждения. Разрывы тканей, кровотечения…
Он что-то ещё говорит, но я уже не вслушиваюсь. Упорно пытаюсь подняться на ноги. Со второй попытки даже получается. Доктор и все присутствующие: пара тинэйджеров в дурацкой мешковатой одежде, пожилая леди, старичок строгого вида, целый выводок белобрысых детей и их родители, такие же бесцветные и бледные. Я шатаюсь, асфальт снова норовит вздыбиться и броситься в глаза. Хватаюсь за плечи того же доктора.
— Ну что вы, в самом деле! — в сердцах говорит он, но я вдруг осознаю почву под своими ногами.
Бросаю взгляд вниз. Пальцы моих ног выглядывают из-под подола необъятной чёрной мантии. Ну, хорошо хоть я не пришёл в этот мир снова таким же, как в первый раз: голым и беззащитным. Понимаю, что магия меня не покинула, и пока я борюсь с тошнотой и головокружением, потоки тепла по моему телу струятся со всё возрастающей силой. Кончики пальцев покалывает, тело наполняется волшебством так стремительно, что я снова покачиваюсь на ногах. Меня ведёт, и я опять оказываюсь на земле. Толпа, шарахнувшись в сторону, обступает ещё плотнее. Чем интереснее зрелище, тем больше народу приходит посмотреть.
— Откуда он свалился?
— С колеса!
— И остался жив?!
— Прямо из кабинки?
— Куда смотрят власти города!
— Не из кабинки, говорят, залез по железной конструкции.
— Суицидник!
— Как же он смог, там ведь охрана?
Где-то завыла неотложка, и я понимаю, что если сейчас не встану и не уберусь отсюда, попаду в магловскую больницу. А там быстро поймут, что у меня ни документов, ни страховки, ничего, чтобы указывало на то, что Северус Снейп вообще существует.
Неимоверным усилием снова встаю — сначала на колени, прижимая раненую руку к груди, потом на ноги. Собственная магия гудит в ушах, как пароходная сирена, правая рука стреляет болью до плеча, всё тело ломит, особенно спина. Как будто в лопатки всадили два ножа и медленно проворачивают.
— Как добраться до вокзала? — спрашиваю яростно. Мне больно и церемониться нет никаких сил.
— За углом автобус останавливается, — следует испуганный ответ.
Они таращатся на меня во все глаза. Кто-то даже достал мобильный телефон и снимает на камеру.
— Прочь.
Толпа расходится от странного человека в чёрном балахоне. И я медленно иду, как мне кажется, к упомянутому «углу, за которым останавливается автобус». Поддерживаю при этом правую руку левой.
— Сэр, вам… вам в другую сторону.
Это девушка-подросток в дурацкой бейсболке. Я тут же разворачиваюсь, чуть теряя при этом равновесие, но держусь исключительно на упрямстве и иду обратно. И тут понимаю, что если уж я решил начинать новую жизнь, то всё стоит делать правильно.
— Благодарю, — говорю я чопорно, обращаясь к доктору, который всё ещё с изумлённым видом стоит на коленях посреди улицы. — За… сочувствие.
Он кивает с ошеломлённым видом, и я следую дальше. Когда достигаю угла и почти скрываюсь с глаз любопытных, к месту происшествия подъезжает неотложка. Что там происходит, меня уже не волнует. Вряд ли кто-то станет меня догонять.
Прислонившись плечом к стене здания, я позволяю себе секунду передышки, потом мысленно настраиваюсь на белый дом и собираю магические нити внутри своего сознания, но для аппарации моё состояние нестабильно, и я чертыхаюсь. Придётся всё-таки на автобусе.
Внимание привлекает крупная бордовая капля, разбившаяся возле моих ног. Провожу пальцами по лицу: на подушечках кровь. Смотрю на неё так долго, что в глазах начинает двоиться. Провожу рукавом пыльной мантии под носом. У меня идёт кровь, я живой. Осматриваю правую руку: она неестественно искривлена, уже начинается отёк, подвижность сохраняется. Закрытый перелом. Я нажимаю на самое болезненное место, и громкий стон тут же вырывается из груди. Боль пронизывает до темечка. Охаю, пугая при этом проходящих мимо туристов с телефонами, отчаянно фотографирующих ночной город. А потом начинаю смеяться. Смех выходит мрачным и каким-то удивительно искренним.
Я живой. У меня идёт кровь. Я чувствую боль.
Я чувствую.
Сжимаю и разжимаю пальцы на здоровой руке, провожу ладонью по своему лицу, по телу, и никак не могу перестать радоваться. Эйфория накрывает с головой.
Я жив.
Поднимаю взгляд в ночное небо, к звёздам и говорю одними губами:
— Спасибо Тебе.
Клянусь, тепло, которого я лишился, шагнув с лондонского колеса обозрения, то тепло, которое было со мной всегда, оставаясь неощутимым и таким привычным, окутало меня в последний раз тогда. Окутало и отпустило.
И больше я не ощущал его до конца своих дней.
* * *
В Лондоне живут достаточно дружелюбные люди. В этом я убедился, когда сел в автобус и не смог собрать достаточно сил для ментального воздействия. Я справедливо полагал, что волшебнику моего уровня не составит труда ввести в лёгкое заблуждение магла, однако водитель, когда я уставился в его глаза и попытался внушить, что приложил вот такую же проездную карту, как и пассажир передо мной, недоумённо уставился в ответ. Спустя секунду, он кинул меня взглядом и спросил:
— Косплеер что ли? — Я тут же понимаю, что почтенный джентльмен не одобряет этих людей, называющихся странным словом, потому что он, поджав губы, процедил: — Взрослый же вроде мужик. Ну да ладно, дело твоё. Платить за проезд-то будем?
Я уже открыл рот, чтобы как-то объяснить собственную нищету, но тут неожиданно вмешалась старушка за моей спиной:
— Джентльмен со мной. Я заплачу.
Я обернулся. Старушка выглядела бойко, приложила свою карту дважды к специальному автомату и довольно бесцеремонно и болезненно протолкнула меня вперёд: между лопатками неимоверно жгло. Впрочем, дотронувшись до моей спины, она тут же отдёрнула руку, и на её лице отразилось удивление и сочувствие: ткань сзади насквозь промокла от крови. Наверное, я упал на какой-то камень или стекло, которое пропороло мне кожу.
Мы сели рядом. Старушка сначала молчала, а потом негромко спросила:
— Избили, да?
Хотел бы я посмотреть на того, кто посмел бы на меня наброситься, но, подумав, кивнул. Старушка кивнула со знанием дела, потом протянула мне закрытую бутылку с водой.
— Держите, сэр. Куда едете?
— На вокзал. В деревню Рай. У меня там… родственники. — Я принимаю бутылку, благодарю её чопорно и понимаю, насколько я хотел пить.
Вода была вкусной. Я пил и не мог напиться, как будто это какой-то живительный нектар. Перекатывал каждый глоток на языке, упивался вкусом и тем, как прохлада скользит по горлу в желудок. Бог мой, у меня есть горло и желудок!
Наблюдая за мной, старушка сочувственно вздохнула.
— Как тебя зовут, сынок?
Я замялся. Называть своё настоящее имя в мире маглов не хотелось. Неизвестно ещё, смогу ли я колдовать. Волшебная сила внутри меня пока не спешит подчиняться.
— Не хочешь говорить? Ну и не надо, береги свои тайны, — вдруг легко говорит она, — только уж больше хулиганам не попадайся. Знать, не очень-то ты нужен твоим родственникам, раз они тебя не встретили.
— Я не предупредил их, что приеду, — говорю чуть растерянно.
— Заблудился? — Похоже, ей и не нужно моих ответов, она всё додумывает сама. — Наверное, впервые в Лондоне? Ты напоминаешь мне сына. Он уехал в Америку двадцать лет назад, и теперь всё, что осталось мне, это старые фотографии и букет альстромерий раз в год на мой день рождения. Ненавижу альстромерии. Сын так и не запомнил, что я люблю ромашки…
Я пил мелкими глотками воду, слушал старую леди и ехал в автобусе. Спустя много лет я вспомню этот поздний вечер как самое странное знакомство в своей жизни. Я был слегка не в себе, только что свалившись с высоты ста пятидесяти футов, а добрая леди была самой загадочной фигурой во вновь обретённой реальности. При других обстоятельствах я бы даже слушать не стал её трескотню о сыне, об Америке, об альстромериях, но тогда просто сидел рядом и внимательно слушал. Узнал, что её зовут миссис Томпсон, и о том, как готовить овсяное печенье, что она любит вязать, и что её любимое блюдо — пастуший пирог. Что её сын — примерно моего возраста, такой же «темноглазый и тощий», и такой же непутёвый, вечно влипающий в разные сомнительные ситуации.
Задумавшись, я понял, что, наверное, в этом пожилая леди права. Уж что у меня получалось с блеском — так это влипать в разного рода истории…
Доехав до вокзала, я обнаружил в своей руке полиэтиленовый пакет с конфетами и печеньем, а миссис Томпсон бодро помахала мне на прощание рукой, затянутой в старомодную лёгкую ажурную перчатку.
К тому моменту, как я добрался на поезде до деревни Рай, начало светать. Идя по тихим улочкам прямо к песчаным дюнам и жуя конфеты на ходу, я упивался их вкусом.
Сладкое мне никогда не нравилось, но теперь я больше всего люблю шоколадные конфеты, как те, которыми угостила меня миссис Томпсон. Они таяли во рту, мои пальцы стали липкими, я облизывал их, ощущая приторную сладость на языке, словом, вёл себя, как полный придурок. По человеческим меркам мне уже было за пятьдесят, но по жизненным обстоятельствам я остался в том возрасте, в котором умер. Хотя и в том, и в том случае мне не положено вот так совать руки в рот.
Да плевать! Я спрыгнул со здорового колеса обозрения ради Поттера, и если мне кто-то скажет, что не солидно облизывать испачканные шоколадом пальцы…
Думаю обо всём этом, пока подхожу к белому дому. Солнце уже красит его стены в нежно-розовые оттенки. Я еле переставляю ноги, чувствую, как противно запеклась кровавая корка на спине, рука болит так, что уже становится невыносимо. Но я упиваюсь морским запахом, обволакивающим меня.
Пахнет морем: солью, йодом и водорослями. Чуть уловимо — песком и утренней прохладной свежестью. Дышу глубоко и мерно, и только от того, что ощущаю, становлюсь абсурдно счастливым.
— Северус?
Оборачиваюсь и рассматриваю его: я слышал, как отворилась дверь. Он стоит на пороге в пижаме, но совершенно не выглядит в такую рань сонным. Наверное, не ложился. Наверное, испугался до полусмерти, что больше не увидит меня. А может быть и нет… Я теперь его не слышу и божественную Песнь не слышу тоже. Она ведь уже должна раздаваться, а вокруг должны стоять ангелы.
Оглядываюсь слегка растерянно. Пляж пустынен, не считая меня, помятого и пыльного, и взволнованного Поттера.
— Северус…
Он осматривает меня внимательным взглядом, подмечает то, как я неловко держу правую руку на весу, мою грязную мантию, всклокоченный вид. Лицо у меня тоже не в лучшем состоянии, наверняка в крови и ссадинах.
Делаю к нему два больших шага. Силы, до этого вроде бы теплившиеся во мне, сейчас стремительно покидают измученное тело.
— Кроветворное, восстанавливающее, успокоительное, костерост, — говорю я серьёзно. Гляжу в расширившиеся зелёные глаза. — И перестань уже винить себя в моей смерти.
Успеваю только увидеть, как Поттер рванулся ко мне с искажённым лицом. А потом падаю ничком в его руки и теряю сознание.
* * *
В следующую секунду я понимаю, что лежу на кровати в его спальне, но понятия не имею, как сюда попал.
— Поттер…
— Тише, тише. — Он возникает откуда-то слева. Садится на кровать вполоборота, смачивает хлопковое полотенце в небольшой миске и кладёт мне на лоб. — Ты весь горишь. Что с тобой случилось, Северус? — спрашивает он. Полотенце на моей голове нагревается мгновенно и становится до ужаса неприятным.
Не люблю это ощущение сырости с самого детства, когда я болел. Тогда мать сидела возле моей постели и точно так же обтирала лоб и щёки.
Гарри снимает ткань, встряхивает её, охлаждая, складывает и снова прикасается холодным к лицу. Я морщусь.
— Тебе больно?
— Холодно.
— У тебя жар. Я думал, ты сгоришь прямо на моих глазах, Северус. Сорок один.
Смотрю на него внимательнее.
Его лицо бледное до серости, губы крепко сжаты в линию. Усталый, измотанный, со следами недосыпа на лице. Медленно поворачиваю голову в другую сторону. За окном горит закат.
— Я что, провалялся весь день? — спрашиваю, — А где дети?
— С Роном. Он попросил прогуляться с ними.
Лежу, утонув в мягкой перине и подушках, как на облаке. Пыльная и влажная после дождя, с грязным подолом, кое-где рваная мантия снята и валяется в углу комнаты. Я обнажён, накрыт одеялом до пояса. Гарри снова обтирает моё лицо и грудь мокрым полотенцем, несмотря на озноб тянусь к влаге.
— Воды.
К моим губам прижимается холодный стакан. Я жадно выпиваю всё и прошу ещё. Вторую порцию осиливаю лишь наполовину. Рука почти не болит, забинтована, зафиксирована, но по-прежнему сломана. И спина саднит нещадно.
— Я принял зелья?
— Тебя тут же вырвало, ты не помнишь? — откликается Гарри устало, снова окуная полотенце в воду. — Ты сначала упал в обморок, потом очнулся, но был словно в бреду, ничего не соображал. Я споил тебе зелья, но организм не принял. Не подействовали и заклинания. Пришлось скормить тебе таблетку парацетамола и наложить лангетку. А потом у тебя поднялась температура до сорока одного. Я думал, ты умрёшь у меня на руках ещё раз.
От полотенца я уворачиваюсь.
— Перестань. Мне и так холодно.
— Я отнёс тебя в ванную, раздел и окунул в холодную воду. — Замечаю вдруг, что он чуть не плачет, и руки подрагивают. По привычке тянусь к нему ментально и вдруг понимаю, что не слышу его.
Всё. Больше не слышу.
Гарри внезапно бросает полотенце в воду и смотрит на меня с чем-то похожим на гнев.
— Что с тобой произошло? Ты можешь мне объяснить хоть что-то? Сначала ты появляешься в моём доме через пятнадцать лет после смерти, как ни в чём не бывало, и говоришь, что ты — ангел. Потом исчезаешь почти на сутки и появляешься вновь, весь израненный и полумёртвый. Северус!
Я откидываюсь на подушки. Их пять или шесть. Зачем Поттеру так много? Мне хочется лежать молча и просто дышать. Чувствовать, как воздух наполняет лёгкие, а потом выходит из них.
— Я стал человеком, — просто сообщаю. Как будто то, что я сиганул с высоты пятнадцати этажей и разбился насмерть, ничего не значит. Будто это в порядке вещей. Просто ещё одна жертва профессора Северуса Снейпа для Гарри Поттера. — Я сбросился с колеса обозрения, чтобы лишиться крыльев.
В его лице такой ужас, что мне хочется усмехнуться. Что, не ожидал, что всё, о чём мечталось, сбудется? Ну так вот он я. Здесь, рядом, живой, тёплый. Что будешь теперь делать?
— Ты… что ты сделал?
Не думаю, чтобы ему требовалось, чтобы я повторил, поэтому молчу, наслаждаясь мягкостью постели, тишиной и его присутствием рядом.
Провожу подушечками пальцев по гладкой прохладной поверхности перины. Она будто живая, принимает очертания тела, обволакивая теплом и ощущением невесомости. Сквозь тонкую ткань простыни чувствуется пуховая нежность. Нет никаких жёстких складок, только бесконечное округление и мягкое сопротивление. Если слегка надавить рукой, перина плавно прогибается, создавая уютную впадинку. Внутри этой впадины чувствуется движение воздуха, лёгкое колыхание пуха, словно живого существа. Рука утопает, пока не коснётся твёрдой поверхности матраса, но и там, на самой глубине, нет никакой резкости, только мягкий переход.
Поттер смотрит, как я раз за разом трогаю его постель, и, по-моему, думает, что я не в себе.
Забавно. Мне хочется, чтобы он был рядом. Человек, который заботится и любит меня. Что в этом ужасного? Ну и что, что это Гарри Поттер? Могу я наконец-то пожелать чего-то для себя?
Гарри дотрагивается до моей руки и несмело проводит пальцами по тыльной стороне ладони. Я тут же разворачиваю руку и ловлю его. Он вздрагивает.
— Ты чувствуешь? — спрашивает он с таким изумлением, будто за несколько дней, что я был рядом, уже успел привыкнуть к тому, что я — эфемерное, призрачное существо.
Чуть кривлю рот в ухмылке и подношу его пальцы к лицу.
— Твоя рука пахнет водой, пылью, дезинфекцией. И она чертовски холодная, — с удовольствием рассказываю я. Потом кладу его ладонь себе на лоб и с наслаждением, почти непристойно выдыхаю: — О-о-о… Как хорошо.
— Это потому, что ты как печка, — отзывается Гарри с каким-то странным выражением. Он не отрывает от меня взгляда, но руку медленно высвобождает. — Температуру удалось сбить на два градуса.
— Я нормально себя чувствую.
— Ну да, тридцать девять уже намного лучше, чем сорок один.
— Магия не действует, говоришь? — Задумываюсь на секунду. — Непереносимость может быть в двух случаях. Либо переизбыток волшебства в теле, либо я сквиб.
— Свиб, как же, — усмехается и показывает рукой на окно. Я поворачиваю голову и вижу обрывки чёрных штор, которые ещё вчера я сам задёргивал. И они не были такими рваными и обгорелыми. — Ты устроил пожар. Дважды. Вначале вспыхнул ковёр в гостиной, я перепугался так, что чуть рассудка не лишился, ведь я забыл палочку в спальне. Хорошо, что мы были возле кухни, и мне удалось его быстро потушить. Второй раз загорелись шторы.
— Не люблю гриффиндорские цвета, — говорю я с иронией.
— Ты горел сам и сжигал всё вокруг. — Поттер моего шутливого тона не принимает. Достаёт обыкновенный магловский термометр и суёт его мне в рот. — Помолчи хоть немного. Дай мне тебя осмотреть.
Благосклонно разрешаю себя обнажить полностью. Поттер с бесстрастным лицом медленно ведёт надо мной палочкой и раскрытой ладонью с макушки вниз. Я ощущаю покалывание там, где он едва ощутимо касается меня. Руки его спускаются всё ниже, и когда они достигают бёдер, я иронично спрашиваю:
— Это ещё зачем?
— Если ты сверзился с высоты десятиэтажного здания, могут быть внутренние разрывы где угодно, Северус, — поразительно спокойно отзывается он, не прекращая диагностики. Его пальцы едва не касаются моего обнажённого члена, которым я, кстати говоря, не интересовался уже пятнадцать лет, и спокойно двигаются дальше, к коленям и щиколоткам.
Дожидаюсь, когда он снимет заклинание и снова набросит на меня одеяло, и ехидно спрашиваю:
— Всё… работает как надо?
Поттер бросает на меня проницательный взгляд, и я не удерживаюсь от улыбки. Щёки его слегка розовеют.
— Да, всё в порядке. Функции организма в норме. Только внешние повреждения.
— Все функции? — уточняю я невинным тоном, и он смотрит на меня почти рассерженно. Стараюсь выглядеть невозмутимо, но чёрт его знает, что со мной случается: снова ухмыляюсь и кусаю губу, чтобы не рассмеяться над тщательно сдерживаемым смущением Поттера.
Он окидывает моё лицо отстранённым взглядом.
— Надо же, — тянет он со слабой улыбкой, — флиртующий Северус Снейп. Только что со смертного одра. Кто бы мог подумать.
— Ты ещё обо мне много не знаешь, Поттер. — Края рта у меня вздрагивают, а он вдруг улыбается нежно и открыто. Глаза его лучатся светом.
А потом Гарри нагибается и прижимается лбом к моей груди, прерывисто вздыхает, будто бы ему не хватает воздуха, и замирает. Мои пальцы сами собой погружаются в его волосы. Они мягкие, густые, красивые. Такие, какими я их представлял себе в последний раз, и вот теперь я могу их потрогать. Нежное, щекочущее кожу тепло…
— Ты не против, если я хочу узнать?
Перебираю смоляные пряди, смотрю в потолок, который расцвечивают оранжевые всполохи заходящего солнца.
— Как я могу быть против, если прыгнул с чёртова колеса обозрения ради тебя.
Выходит резче, чем я хотел, но как есть: искренне. Он поворачивает голову, не отстраняясь, смотрит мне в глаза долго, не моргая. Я без всякой ангельской магии вижу, что ему до одури хочется меня поцеловать. И замираю. Решится?
— Расскажешь, Северус? Не сейчас, может быть, потом, когда поправишься и будешь чувствовать себя хорошо. Почему ты сделал это?
«Не решился. И, наверное, не решится ещё долго», — понимаю я со странной смесью разочарования и облегчения.
— Расскажу.
Некоторое время висит тишина. Поттер, закрыв глаза, лежит головой у меня на груди, согнувшись в три погибели. Ему, наверное, неудобно, но он не двигается. Меня же прекращает бить мучительный озноб, и под одеялом становится слишком жарко.
— Температура спадает, — сообщаю я негромко, и он поднимается. Зелёные глаза чуть блестят, но я не замечаю в них слёз.
— Был жар, потому что магия возвращалась в тело. Возьми мою палочку, наколдуй что-нибудь.
Палочка, сокрушившая самого могущественного волшебника современности, ложится в руку удивительно легко. Дерево тёплое, внутренняя магия, заключённая в артефакт, льнёт ко мне, и я ощущаю жар где-то возле солнечного сплетения.
— Твоя палочка мне подходит, Гарри, — сообщая я мягко, и он улыбается.
— Ну ещё бы. Ты ведь сбросился с Лондонского глаза ради меня.
— Ты умеешь ехидничать?
— А то. Заклинание, Северус…
Я делаю быстрый рунический взмах:
— Люмос!
Удивительно, с каким упоением я чувствую собственную магическую энергию, струящуюся в теле. Она отзывается резво и живо, с большой охотой и каким-то нетерпением. У меня даже чуть электризуются волосы, настолько рьяно волшебная суть врывается в артефакт в моей руке. На конце палочки загорается яркий огонёк, гораздо ярче, чем обычный люмос. Поттер удовлетворённо кивает.
— Поздравляю, ты не сквиб. И, судя по всему, сможешь принять зелья. Я сейчас принесу костерост и восстанавливающее. И покормить тебя бы не мешало.
— Умираю, хочу стейк, — нагло сообщаю я, и Гарри чуть улыбается.
— Охотно верю. Но твой желудок вряд ли будет рад. Он был в отпуске пятнадцать лет. Куриный бульон с сухариками, Северус. — Он обводит задумчивым взглядом мою фигуру, скрытую одеялом. — И нужно что-то придумать с порезами и царапинами. Они покрывают всё твоё тело.
— Я несколько раз терял сознание, пока шёл к тебе утром, — говорю беззаботно. Магия стремительно возвращает мне хорошее самочувствие. — И падал в какие-то кусты.
— Кусты?
— Не мог же я валяться на дороге, как бомж, Поттер!
Он смотрит на меня с испугом, и я смягчаюсь:
— Всё хорошо, это только царапины. У тебя есть растопырник? — Я протягиваю ему руку, которую он неосознанно тут же ловит в тёплые ладони. И я добавляю невпопад: — Теперь я рядом по-настоящему. Успокойся уже.
Одно с другим не клеится, но он хорошо понимает меня. Гарри неосознанно мнёт и гладит мою кисть, прижимает к своей груди, всё смотрит и смотрит на меня. Вряд ли он понимает, что делает, потому что в глазах его какая-то полузадушенная тревога и нежность, достающая до дна моей души. Меня буквально сметает его эмоциями, настолько они сильные и яркие, считываемые, как текст, написанный на пергаменте. Я внезапно понимаю, что его сознание открыто, а мои способности к легилименции крепнут с каждым мгновением. Я всё больше становлюсь самим собой.
— Зачем ты спрыгнул, Северус? — спрашивает он после долгой паузы.
Поттер не может от меня отойти без этого ответа. Как будто то, что я ему скажу, станет определяющей точкой в наших дальнейших жизненных дорогах. То, что я отвечу, дорого ему так, как не дорого больше ничто.
И я отвечаю:
— Потому что ты любишь меня, Гарри.
Гарри молчит целую вечность, не в силах поверить в то, что происходит прямо сейчас. Хватка на моей руке становится такой сильной, что мне на секунду становится больно. Потом он чуть отпускает ладонь, которую сжимал словно тисками. Целует мои холодные пальцы, даром, что в комнате жарко. Укладывает руку на кровать в складки одеяла очень бережно и осторожно, потом поднимает на меня глаза.
Они сияющие. Как Тропа.
— Пойду приготовлю тебе поесть.
* * *
Спину мою не берёт ни растопырник, ни заклинания. Гарри матерится, делает мне какой-то магловский компресс, пахнущий травами и спиртом. Я лежу на животе в свежих простынях, которые он сменил. Заставил меня вылезти из постели после того, как я поспал два часа и пропотел так, что всё стало мокрое, быстро перестелил всё, утащил бельё в стирку.
На мою наготу он смотрит совершенно профессионально: авроры проходят курсы колдомедицины и практику в клинике святого Мунго, так что голым задом их не удивишь. Скользит взглядом словно сквозь меня, а я почему-то теряю последний стыд. Валяюсь в чём мать родила в кровати, сетуя на то, что мне жарко под одеялом, и кто вообще спит на пуховой перине посреди лета!
В конце концов, измученный моим голым телом Поттер (что приводит меня в тайный восторг) закутывает меня в простыню до пояса и переворачивает на живот.
— Ничто не берёт эти раны, Северус, — говорит он в отчаянии. В тазике на полу становится всё больше окровавленных бинтов. Кровотечение началось час назад. Сначала кровило немного, но сейчас Гарри уже даже не меняет повязки, а просто прикладывает чистую ткань на несколько минут, и она тут же пропитывается кровью. — Ты что, свалился на ограждение набережной? Почему тут такие дыры, словно тебе в спину вонзили два топора разом?
Самое интересное, что мне почему-то абсурдно, по-идиотски весело. Я чувствую себя нужным и важным, чувствую, что Поттер искренне заинтересован во мне, и от этого хочется вытворить какую-нибудь мальчишескую ерунду.
— Северус! Ну что ты делаешь!
Да, например, без предупреждения перевернуться на спину и перепачкать свежие простыни кровью.
— Гарри, оставь. Кровь остановится сама.
— А если ты истечёшь на моих глазах? Ты посмотри, она же не останавливается, что это за раны такие?
Я знаю, что это за повреждения. Две раскрытые раны ровно на лопатках, глубокие, каждая длиной по четыре дюйма. И знаю откуда-то, что они должны затянуться сами. Не поможет ничего, кроме времени, но Гарри я об этом сообщать не тороплюсь. Обо мне никто ещё так не заботился.
— Нужно посмотреть в справочнике по магическим недугам. Это не нормально, что кровь не останавливается, когда я влил в тебя уже целую пинту зелий! — Гарри забавно всплёскивает руками. Наблюдаю за ним из-под ресниц с каким-то неведомым мне ранее удовольствием.
Уже почти ночь. Он крутился целый день — вокруг меня. Он варил бульон и носился с постельным бельём по всему дому — для меня. Он сидит сейчас рядом, переживает и отчаянно смотрит своими зелёными глазами — на меня. Я эгоист? Да.
Мне нравятся мои ощущения. Я слаб, как котёнок, у меня всё болит, оставшийся в теле жар всё ещё ломит кости, но я чувствую себя нужным, важным, окутанным вниманием. Чувствую, что я — центр вселенной одного определённого человека.
Чувствую, что любим.
Последняя мысль внезапно заставляет перестать улыбаться, и я внезапно ощущаю, что в горле встал ком.
— Всё, Поттер, всё нормально. Кровь остановится, перестань кудахтать.
Говорю резко, почти зло. Отвожу глаза от любопытного непонимающего взгляда. Он замирает на секунду, склонив голову к плечу, потом осторожно тянет меня за плечо и снова переворачивает на живот. Я неохотно подчиняюсь.
— Ничего, Северус, — вдруг говорит он абсолютно спокойно, — ты привыкнешь к этому. Я буду кудахтать над тобой ещё не один день, потому что ты должен встать на ноги. Тебе придётся привыкнуть к тому, что ты больше не ангел. Во всех смыслах. — Вопреки всему усмехаюсь. Как быстро меняется моё настроение. — А также к моему кудахтанью. Потому как отпускать тебя я теперь не собираюсь, хоть ты меня матом обложи, хоть ударь, хоть…
— Гарри. Хватит. Прости.
Три слова заставляют его засмеяться. Он снова осторожно промакивает мою спину чистой тканью, и я шиплю от боли. А потом его руки вдруг замирают.
— Это же… Мерлин, Северус!
— Дошло наконец?
Чувствую, как его пальцы осторожно обводят саднящие лопатки, а потом — я вздрагиваю — он целует меня в спину, прямо между двух кровоточащих ран. Если бы мне кто сообщил, что я буду задерживать дыхание, пока меня целует Гарри Поттер, я бы проклял его чем-то малоприятным и долговременным.
Прикосновение губ мягкое, волнующее. Я замираю от этого ощущения нежности на своём теле и силюсь припомнить, а случалось ли со мной такое раньше? В прошлой жизни, когда я принимал всё как данность, когда ценность запахов, осязания, человеческих чувств была совсем иной, нежели теперь.
— О Господи!
То, что что-то произошло, я ощущаю странным покалыванием в теле и полным исчезновением боли.
— Северус, они затянулись. Раны… прямо на глазах!
Он заставляет меня встать с кровати, подводит к зеркалу на платяном шкафу и показывает два свежих розовых ярких рубца на спине.
— Наверное, останутся шрамы. — Гарри проводит ладонью по коже, заставляя покрыться мурашками.
— Надо же. Раны от крыльев затянулись так быстро.
— От крыльев…
Он ещё раз проводит ладонью по некрасивым, неровным рубцам. Словно мои прекрасные, огромные, солнечные крылья вырвали из тела с мясом. Быстро и безжалостно.
Я даже могу вспомнить, когда это произошло.
— Как только я прыгнул с колеса обозрения, крылья появились, но совсем не держали. Я бил ими, но они не действовали, а потом засветились так ярко, как никогда ранее, и исчезли. И точно в этот момент меня пронзило болью, равной которой я не помню. Должно быть, сознание не выдержало и покинуло меня ещё до удара о землю, потому что очнулся я спустя секунду, а вокруг меня полно народу.
Не сразу понимаю, что говорю вслух. Гарри смотрит на меня так, что мне становится неловко. А потом я вспоминаю, как просмотрел всю его жизнь. И все его чувства, и все его желания, и всё то, что не предназначалось для посторонних глаз, даже для моих, и стыд отпускает.
— Ты сделал это не для меня. Ты хотел жить, Северус.
Он смотрит сквозь зеркало. На нём всё та же пижама, что была с утра. Должно быть, не было времени переодеться. Волосы встрёпанные, испарина на лбу — совсем забегался в заботах обо мне. И руки усталые, пальцы в моей крови.
— Но ведь ты был ангелом? Ты мог бы жить вечно, был бы всегда рядом со мной. Всегда. Зачем ты сделал это?..
Он спрашивает снова и снова, хотя мы договорились, что я расскажу позже. Пожалуй, это ключевой вопрос. Разворачиваюсь — высокий, выше него на голову, — смотрю сверху вниз. Он так близко, что я могу видеть, как пульсирует радужка вокруг его зрачка. Стою перед ним абсолютно голый, но как будто ему снова шестнадцать, а на мне профессорская мантия Хогвартса, и между нами целая пропасть, а не несколько дюймов.
— Прости. Я знаю, ты уже говорил мне. — Поттер такой беззащитный и ранимый сейчас. Он опускает голову, чтобы я не видел выражения абсолютной открытости на его лице.
Поколебавшись одно краткое мгновение, беру это лицо в ладони, настойчиво поднимаю к себе. Моё тело, спавшее столько лет, отзывается на близость человека, любящего меня. В груди зарождается жаркое волнение, то самое, которое я так часто ощущал в других людях, но забыл, как это, когда оно во мне самом.
— Я всё знаю про тебя, — говорю веско. — Каждое твоё слово, каждый твой вздох был прочувствован мной. Я видел твою душу, всё самое главное, весомое в твоей жизни. И я хочу сказать, что нет в любви, которую ты испытываешь, ничего стыдного и ненормального. Любовь вообще не может быть ненормальной. Вожделение, одержимость — может, а любовь — нет. И я дурак, что не осознавал этого раньше. Я хочу хоть раз в жизни понять, как это — когда тебя настолько любят. Осознать это, ощутить. Всё это стоило тех шрамов, которые теперь останутся на моей спине навсегда. Нет у меня больше крыльев, Гарри…
У него больные глаза, будто его мучает лихорадка. Он весь дрожит у меня в руках. И я касаюсь его лба горячим поцелуем. Он весь сжимается.
— Ты хочешь быть со мной? — спрашивает он, не веря и боясь поверить. — Ты? Правда хочешь?
Мягко смеюсь.
— А с кем мне ещё быть? Твоя безусловная любовь, то, что ты до сих пор, столько лет оставался верен, хранил это чувство ко мне… Ты думаешь, я это могу просто так оставить без внимания?
Он вздрагивает от каждого слова. Моя откровенность сногсшибательна и резка. Откровенность Северуса Снейпа, но, может, хватит?
Хватит притворства и увиливаний, хватит сомнений и пустых слов. Отрицать очевидное — удел дураков и трусов. Мы нужны друг другу. Я не просто так нашёл его через пятнадцать лет после собственной смерти, а он не просто так едва не умер от любви ко мне! Какими надо быть идиотами, чтобы сейчас отказаться друг от друга?
Гарри, похоже, и вправду боится поверить. Он снова поднимает ресницы, смотрит на меня такими нежными, беззащитными глазами, что мне на секунду становится стыдно, потому что я не разделяю его чувств в полной мере. Но я попробую. Я всей душой хочу поверить ему и ответить. Так, как только смогу.
— Я дурак, — говорит Гарри, — я ничего не понял. Я много фантазировал о тебе. Марк прав. Я не знаю тебя, и всё, что я чувствую — не к тебе, а к тому, другому человеку. Плоду моей фантазии. Тебя это не пугает?
Он говорит сбивчиво, но я понимаю. Беру его за руку, тащу к себе тёплую ладонь и упиваюсь этим осознанием: я чувствую тепло его руки, её мягкость и нежность. Я могу прикоснуться к его коже не потому что надо, а потому что хочу этого.
— Что тебе интересно обо мне узнать? — спрашиваю мягко.
— Не знаю… — Он на мгновение тушуется. — Какой твой любимый цвет?
— О, ну это слишком интимный вопрос!
Он улыбается. Его лицо румяное и живое. Он устал до двоения в глазах, но такого наполненного жизнью выражения глаз я не припомню за всю его и свою жизнь.
— А правда, какой, Северус?
Моё имя в его исполнении — таинственная мантра. У меня бегут мурашки от того, как раскрываются его губы, произнося его.
— Синий. Тёмный и глубокий, как небо в последний предночный час, — говорю я, — а твой?
— Чёрный. Цвет твоих глаз.
Наши лица так близко, что я ощущаю его лёгкое дыхание на своих щеках, его запах, тепло, исходящее от него.
— Поцелуй меня, — прошу я горячо и пламенно, опуская руки ему на талию, притягивая его ближе. — Поцелуй меня, пожалуйста. Я хочу почувствовать, как ты целуешь меня. Ты ведь хочешь.
Глаза его темнеют от желания, сейчас такого явного, что не хватает дыхания, чтобы прожить его до конца. Но он не делает ничего, чтобы хоть как-то выразить его, только легонько дотрагивается до моего лица пальцами.
— Ты ведь больше не можешь слышать меня.
— Я легилимент, Гарри, — улыбаюсь, — я всегда буду слышать тебя. Давай. Просто сделай это. Поцелуй.
И он целует. Легко, поднимаясь на цыпочки, как-то очень трогательно и робко, едва ощутимо, почти целомудренно касается своими губами моих. Тянется ко мне всем телом, и я чувствую: всей душой.
Я чувствую: сейчас сбывается его мечта. Вот прямо сейчас, в это мгновение. Мои руки оживают, притягивают его ближе. Он — податливый и мягкий — ложится мне в объятия, и теперь уже я целую его, смело и жарко, так, как, я видел, хочется ему на самом деле.
Через секунду он отшатывается, румяный и взволнованный. Моё тело, никогда доселе не реагировавшее на мужчин, просыпается с удивительной прытью. И поскольку он одет, а я обнажён — ничто не скрывает возбуждения.
Но Гарри, скользнув мельком взглядом по мне, быстро запрещает себе думать о чём-либо. Он отстраняется и со свистом вбирает воздух в грудь.
— Северус… ты живой. Ты теперь всегда будешь рядом, правда? Ты ведь не исчезнешь завтра? Я ведь не сошёл с ума? — спрашивает он отчаянно, и я понимаю, что он готов разрыдаться у меня на груди.
Сжимаю его плечи в руках так сильно, как могу, так, чтобы закрыть не только от всего мира, но и от его собственных страхов.
— Я не уйду. И не умру, — усмехаюсь в своей прежней манере. — Ты ещё успеешь устать от меня, Поттер. Я ведь такой, какой есть: не слишком приятный человек. Думаю, мало что изменилось за те пятнадцать лет, что я был мёртв. Ты наверняка уже успел забыть, какой я. К тому же, куда мне идти? У меня даже документов нет.
Гарри неожиданно усмехается, потом склоняет голову и прижимается щекой к моей руке.
— Всё, что угодно, Северус. Всё, что хочешь. Только живи.
* * *
Глубокой ночью, после длинных разговоров обо всём на свете, он порывается уйти в гостиную, но я объявляю, что голодный, и Гарри, накинув на мои плечи свой халат, уходит на кухню, чтобы приготовить ужин.
Дети так и не вернулись от Рона Уизли. Вечером в камин постучалась Гермиона и попросила разрешения оставить их на два дня. Поттер немного расстроился: он ведь видел их не слишком часто, и каникулы они должны были провести с отцом.
— Они поехали в Италию, Гарри, — говорит Гермиона, — Рону неожиданно дали отпуск, он взял детей и племянников, чтобы показать им места обитания карликовых драконов. Там сейчас работает Чарли. У них там новое место гнездования, а драконы дают потомство не так часто. Вымирающий вид. Особенно радовалась Лили. Она очень хотела увидеть маленьких детёнышей.
Мы сидим на кухне, я снова хлебаю жидкий куриный суп, хмыкаю:
— И как это только Джеймса соблазнили драконьи гнёзда? Я думал, он и носа отсюда не покажет.
Поттер, вяло ковыряющий напротив меня вилкой салат, отставляет от себя тарелку.
— Вообще нет аппетита. Ты не объяснишь мне, что за невеста у Джеймса, ты ведь узнал о ней раньше меня, не так ли?
— Ты думал, твой сын будет тебе всё рассказывать только потому, что ты — его отец, Поттер? — спрашиваю, не сильно заботясь об его чувствах. — С ребёнком нужно выстраивать доверительные отношения. Тогда ты можешь ждать, что тебе расскажут хоть малую долю того, что происходит в его жизни.
— Ты-то откуда можешь знать, как выстраивать отношения с детьми? — довольно резко отвечает Гарри, но он не сердится. В его тоне, скорее, усталая обречённость. — Джеймс — не самый простой ребёнок. И я полностью отдаю себе отчёт в том, что сам сделал его таким. Иногда мне кажется, что он меня ненавидит.
— Тебе кажется, Поттер, — говорю я убеждённо, — он любит тебя так, что и сам не понимает, насколько.
— Почему тогда я ничего не знаю о его девушке, а ты знаешь всё?
— Потому что ты ни разу не спрашивал.
Не надо читать души, чтобы видеть, как ранят его мои слова.
— Я не хочу тебя задеть, — говорю мягче, облокачиваюсь на стол, слегка отодвинув тарелку, — прости, если это случилось.
Гарри кивает, принимая мои слова, потом на мгновение задумывается.
— Так что, ты знаешь, кто она?
— Да. И ты тоже знал бы, если бы был внимательнее.
— Северус!
Приподнимаю брови.
— Благодарю, я в курсе, как меня зовут. — В лице Поттера недовольство, вина, и я смягчаюсь. — Она появилась в первый день, как вы сюда приехали. — И, поскольку он приподнимает брови, поясняю: — Это подсказка, Поттер.
Он напряжённо думает.
— Та девушка из кафе, где мы завтракали? Официантка?
— Нет. Думай лучше.
Он хмурится, потом его лицо озаряется улыбкой.
— А, девушка за стойкой? Она единственная подходит ему по возрасту.
Делаю два театральных хлопка.
— Можешь же, когда хочешь.
Некоторое время Гарри сосредоточенно жуёт салат, вкуса которого он, как мне кажется, не ощущает вовсе.
— Ладно. И что, это с ней он пропадает по ночам?
— Конечно. Неужели ты думал, что я бы оставил твоего сына в какой-нибудь сомнительной истории?
— Ты что, следил за ним?
— Приглядывал. Найдя «своих» людей, ангел уже не может оставить их. Я тогда не знал, что это ты, и что он — Джеймс Поттер-младший. Просто чувствовал, что нужна моя помощь.
— А сейчас?
Наклоняю голову к плечу. Я хорошо понимаю, о чём спрашивает Гарри. Ему ли не знать, какой отклик в моей душе рождает имя «Джеймс Поттер», и его беспокойство, вполне понятно.
Подбираю слова тщательно, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Долго думаю над ответом. И, наконец, говорю кратко:
— Ты полагаешь, что, умерев, я всё ещё лелею свою ненависть к твоему отцу? — Он вздрагивает. На лице его смятение. — И неужели ты думаешь, что я способен быть предвзятым к твоему сыну только из-за того, что он назван в честь деда?
— В моём случае тебя все это не останавливало.
— В твоём случае я был идиотом.
Вопреки всему, уголок его рта ползёт вверх.
— Что? Я не ослышался?
Качаю головой. Я серьёзен. Долго молчу.
— Нет. Мне действительно нечем гордиться. Человеком я был… не слишком умным, Гарри. По крайней мере, в том, что касается тебя.
Теперь молчит он. Потом дотрагивается до моей руки. Я тут же ловлю его пальцы.
— Ты самый смелый человек, которого я когда-либо знал.
Пристально смотрю на него некоторое время.
— Ты назвал сына в мою честь.
Он улыбается чуть печально.
— Знал бы ты, как мы поругались из-за этого с Джинни.
— Я знаю.
— Есть что-то, что ты не знаешь обо мне? — вздохнув, спрашивает Поттер. Качаю головой, и его лицо заливается краской. — Что, совсем… всё?
— Кажется, ты уже несколько раз спрашивал об этом. Скажем так, совсем уж интимные моменты я просматривал вскользь. Не особо вглядываясь в то, что происходит.
Он закрывает лицо руками.
— О, Мерлин… — Я коротко смеюсь. — То есть в спальнях полно ангелов, и вы все что, смотрите?
— Конечно нет. Это случилось, когда я дотронулся до твоего плеча. Я словно оказался в водовороте твоей памяти и никак не мог контролировать то, что вижу. А после я вспомнил и себя. Помнишь, я рассказывал. Ни у кого из нас нет памяти. Мы можем обрести её только, если дотронемся до «своего» человека.
Он настолько поражён, что секунду не может выговорить ни слова. Потом откидывается на спинку стула и долго о чём-то размышляет.
— Что это за магия, Северус? — наконец спрашивает он почти жалобно. — То есть… Это же просто в голове не укладывается!
— Волшебное сообщество на удивление самоуверенно, Гарри. Оно свято верит в собственное абсолютное могущество. А на самом деле никто в этом мире не знает наверняка, как он устроен и что в нём есть.
Мы долго молчим, доедаем каждый свой ужин. Я снова колдую палочкой Гарри, и тарелки отправляются мыться в раковину, а потом ровно ложатся в сушку. В спальне Поттер укладывает меня в кровать, хотя чувствую я себя уже хорошо, и забота мне не требуется, но, думаю, он действует по привычке. Наконец, когда я накрыт одеялом и удобно устроен в подушках, Гарри уходит в душ, но возвращается очень быстро. Всё ещё боится, что я куда-нибудь исчезну. Но я не исчезаю. Я читаю журнал, лежащий у него на тумбочке.
— Ты неплохо пишешь, — сообщаю я, когда Поттер устраивается в ногах кровати. Садится на край, опирается на руку. — Это же то издание, где ты работаешь?
Он морщится.
— Не нужно много таланта, чтобы писать о маглах для волшебников. Их удивляет само наличие микроволновки на кухне, а уж от того, как она работает, они приходят в восторг. Мы пишем для тех, кто этим интересуется, разумеется. Например для таких, как Артур Уизли.
— Это не отменяет того, что статья написана хорошо. Может, напишешь книгу? — Он отмахивается и зевает в кулак. Глаза у него слипаются. — Что ты там примостился? Ложись нормально. Ты же сейчас уснёшь.
Гарри качает головой.
— Я уйду спать на диван в гостиную. Не хочу тебя тревожить. Ты ещё нездоров, а я сплю беспокойно. — Он ложится головой на мои колени и прикрывает глаза. — Только полежу немножко так, можно?
Он не видит, как я улыбаюсь. Погружаю пальцы в его влажные волосы, медленно перебираю их. Поттер довольно жмурится.
— Почему Лили видела тебя, а Джеймс и Ал — нет? Это как-то связано с возрастом? — вдруг спрашивает он.
— Думаю, это больше связано с тобой. Ты дал сыну моё имя. Значит, вкладывал часть своих чувств ко мне в него. Поэтому Альбус видел сияние. Скорее всего, крылья. А Лили… — Гарри поднимает голову с моих колен. Взгляд его внимательный, без единого намёка на сонливость. И я не продолжаю, только молчу, глядя на него.
Тишина звенит между нами, мы смотрим друг другу в глаза, и, мне кажется, я никогда ещё не чувствовал себя таким уязвимым.
— Задай этот вопрос, Гарри, — мягко прошу.
Ярко-зелёные глаза блестят, и я вспоминаю другие такие же глаза в обрамлении ярко-рыжих волос. Золотые, дрожащие блики от солнца на её щеках…
— Лили видела тебя целиком, потому что… Ты любишь её, да? Мою маму.
Слова плывут в полумраке спальни, как призрачные кораблики. Они исчезают в темноте, истаивают в дрожащем пламени свеч. Уносят мои печали. Вспомнив девочку, лежавшую рядом со мной под ивами на берегу речки, я вдруг понимаю, что не чувствую больше той непомерной, тянущей вины, которая сопровождала меня большую часть жизни. Отпустило.
Или я отпустил.
Гарри смотрит на меня сквозь темноту.
— Любил, — отвечаю. — Больше жизни. С самого детства. С первого взгляда.
Он медленно ложится обратно, обнимает мои колени сквозь одеяло, и я вновь опускаю руку ему на голову.
— Мне очень жаль, Северус.
Так тихо, словно бы показалось.
— Чего, Гарри?
— Я знаю, как тебе было тяжело.
Тихонько тяну его за волосы, вынуждая поднять голову.
— Посмотри на меня. — В его глазах я читаю именно то, чего ожидал: обречённость. — Что ты себе придумал, глупый?
— А что мне ещё думать?
Качаю головой. Потом сажусь, наклоняюсь к нему, смотрю прямо в глаза и медленно проговариваю.
— Гарри, ты слышишь в моих словах прошедшее время? Лили Эванс — это моё прошлое. Оно у каждого человека есть. И пусть оно остаётся в прошлом. — Беру его лицо в ладони. Кажется, у меня снова жар: его щёки холодные. — А настоящее здесь, рядом. Ты понял? Твоя дочь видела меня ангелом, потому что должна была утонуть тогда в море.
Он вздрагивает всем телом, порывисто садится на постели, вырываясь и хватая мою ладонь.
— Это ты спас её! Северус!
Он падает вперёд, лицом в моё плечо, я подхватываю его, обнимаю и ложусь в подушки, тяну на себя, укладываю рядом. Гарри судорожно шепчет: «Это правда был ты!». Я ничего не отвечаю, просто глажу его по спине и держу. Мне кажется, что проходит целая вечность, пока у него перестают дрожать руки, которыми он вцепился в воротник моей пижамы.
— Что-то нужно делать с твоими нервами, Гарри, — вздыхаю.
Он не отвечает. Уронив голову мне на грудь, он спит.
Chapter 11: О счастье, ночи и о любви
Chapter Text
Поттер похож на морскую волну. Рождаясь где-то внутри исполинского тела моря, она поднимается на поверхность, набирает силу и высоту, собирает водную гладь в складку, катит водную мощь к берегу неотвратимо, с силой и упорством. Её не останавливают ни ветра, ни яростные дожди, ни палящее солнце. Она точно знает, чего хочет: накатить на берег, смочить сухой, жаждущий песок, а потом уйти обратно в море. Раствориться, чтобы через некоторое время родиться вновь и вновь начать свой путь.
Чем больше я наблюдаю за Гарри, тем больше понимаю его.
Поттер порывист, склонен рубить с плеча, делать поспешные выводы, вспыхивать и моментально гаснуть. Он чересчур эмоционален, но также склонен глубоко оценивать свои состояния. Необычайная трепетность мешается в нём со сдержанностью, доброта и нежность гасятся спокойствием. Поттер кажется одновременно и скалой, и водой: каменным и податливым одновременно. Он полон внутренней тихой силой, какой-то совершенно непоколебимой верностью, терпением, упрямством, бесстрашием. И в то же время он мягок, нежен, и нежность эта точит камни и разрушает скалы.
Подходит к концу третий день моего человеческого преображения. Я сходил в душ, обжёгся, потому что совсем забыл, как это, когда вода горячая. Вышел в спальню в чём мать родила, и Поттер, перестилающий мою кровать, торопливо отвернулся. Я лишь улыбнулся, потом надел новую одежду. Человеческую, не мою, которая опостылела за пятнадцать лет. Мягкие брюки и льняная рубашка. Я поднёс ткань к лицу: она пахла чистотой, едва уловимым цветочным ароматом кондиционера для белья. Долго мял в руках одежду, прислушивался к тому, как она тихо шуршит, потом надел. Брюки были мне слегка коротковаты.
— Нужно купить тебе нормальные вещи. Мантии, брюки, рубашки, пижаму, бельё… Я составлю список и сегодня же аппарирую в Косой переулок. Не можешь же ты ходить в моей одежде, она на тебе, как фрак на шпале. Скажи мне, что тебе ещё нужно? И надо ещё что-то придумать с твоими документами. Ты официально умер, тебя не существует, но не думаю, что ты захочешь новое имя. Ты Северус Снейп, чёрт побери, и останешься им. Или я — не Гарри Поттер. Мы найдём способ воскресить тебя.
Этот его монолог заставляет меня улыбнуться. Он так быстро и ненавязчиво взял за меня ответственность, что я даже не успел понять, как это произошло. Чай по утрам до завтрака, мой любимый — и откуда только знает? Синие простыни. Синие! И на ужин он изжарил мне стейк. Сам. Без магии.
— Если ты будешь с таким вниманием провожать каждый кусок в мой рот, я подавлюсь.
Мы сидим за столом, и я никогда ещё так не наслаждался едой. Мясо прожарено не до конца, кровь не ощущается, лишь намёк. Оно мягкое, нежное, прекрасно оттенено специями, и я несколько раз хвалю кулинарный талант Поттера. Он смотрит, как я режу мясо ножом, улыбается, подперев рукой щеку, и совсем ничего не ест сам.
— Ты держишь пост? — Приподнимаю брови, и улыбка его становится шире.
Потом он подкладывает на мою тарелку ещё овощей, картофеля и подливает вина в бокал.
— Знаешь примету? Как мужчина ест, таков он и в постели.
Я ухмыляюсь:
— Ну и каков я, по-твоему?
Он молчит некоторое время, цедя вино из своего бокала, а потом совершенно откровенно говорит:
— Ненасытный.
— Это потому что я… не ел пятнадцать лет.
Моменты флирта возникают постоянно. Я сам не знаю, как так получается, что мы ходим вокруг да около темы секса. Мне нравится провоцировать Гарри, колоть его намёками, а он, похоже, не прочь мне отвечать. Мне не требуется никакой ангельской магии, чтобы понимать: Поттер по уши в меня влюблён. И хочет меня до безумия.
Я знал это и раньше, но сейчас я чувствую, и это меняет всё. Я чувствую тепло его ладони, когда он касается моей руки. Я чувствую мягкость его губ в те редкие моменты, когда он целует меня, всегда так нежно, осторожно, будто я хрустальный. Он никогда не настаивает, не начинает сам и, по-моему, обходил бы меня по дуге, только бы я не подумал чего лишнего. Поттер обходится со мной с такой деликатностью, что это даже чуть раздражает. Будто я дама девятнадцатого века, а он покушается на мою честь.
Он поддаётся лишь на откровенно высказанную просьбу, и вчера, перед тем, как погасить свет в спальне и уйти на диван в гостиной, он по своему обыкновению спросил, не нужно ли мне чего. И я вдруг ни с того ни с сего сказал:
— Нужно. Поцелуй героя.
Щёки его вспыхнули так, будто ему не за тридцать, а какие-то семнадцать лет, и он стоит передо мной — юный, трепещущий, робкий. А я — его опытный, сильный, старший партнёр.
Смерть стёрла года между нами. Теперь я старше совсем ненамного, но он по-прежнему воспринимает меня, как раньше. Здесь и сейчас мы будто застряли, мы будто плывём в бесконечности временного пространства, где важны только чувства. Уж мне ли не знать, насколько это на самом деле правда.
— Не играй со мной, Северус, — просит он тихо, после того как нежно коснулся моих губ своими.
Я схватил его вчера за плечи, обнял, поцеловал. Он отвечал нежно, не поддаваясь моему напору, и в конце концов сбежал. Оставил меня одного, с тяжёлым дыханием, в совершенном раздрае.
Когда я начинаю анализировать своё бешеное, иррациональное желание провоцировать его, непременно возникает недоумение. Должно быть, так реагирует мой разум, который говорит: «Северус, с чего это вдруг ты интересуешься мужчинами?»
Но чему-то более сильному и могущественному во мне всё равно. Мне хочется вкусить его любви, узнать, что она такое и как это, когда тебя настолько вожделеют. Со мной это впервые. Моя душа всеми своими фибрами тянется к нему — человеку, который полюбил меня без прикрас, такого, каков я есть, принял меня, смирился со мной, оплакал меня и встретил совсем другим с той же самой любовью, незамутнённой и чистой, не пошатнувшейся и первозданной.
Абсолютной.
Обретя плоть, мне отчаянно хочется прикосновений. Мне нравится, когда Поттер берёт меня рассеянно за руку, пока работает. У него это получается неосознанно. Он, находясь в собственных мыслях, бегло печатая статью на ноутбуке, просто нашаривает мою руку, потому что я почти всегда остаюсь рядом. По привычке сижу в своём кресле, в котором наблюдал за этой семьёй две недели. Поттер сжимает мои пальцы бережно, мнёт их задумчиво, иногда подносит к лицу. Не целует, просто прислоняет к щеке и сидит так некоторое время. А потом будто понимает, что делает, и смущённо улыбаясь, выпускает руку, и щёки его розовеют.
Его тело знает, чего оно хочет, и я отзываюсь.
В первую ночь, когда он уснул буквально на мне, мне было так сладко…
И чёрт, мне всё равно, что рано, иррационально, неправильно, странно — что ещё? Какие ещё причины можно назвать? Всё к чёрту, потому что я хочу. Хочу, чтобы он был рядом со мной. Всегда. Хочу это его обожание лишь для себя одного. Хочу, чтобы его взгляд был устремлён только в мою сторону. Хочу его руки, губы, хочу позволить ему всё, чего бы он ни пожелал…
Мои желания пугают меня самого, но потом я думаю, что глупо бояться сумасшествия, когда оно уже наступило.
— Что с тобой? — Поттер смотрит на меня, чуть наклонив голову к плечу, и я возвращаюсь в реальность.
— Всё в порядке. О чём ты говорил?
— О том, что знаю, с какими гоблинами связаться, чтобы тебе снова сделать документы и обставить всё, как и не смерть вовсе. Конечно, есть свидетели, но твой гроб опускали в могилу закрытым, тело видели лишь немногие… Где ты витаешь?
Демонстративно подпираю ладонью подбородок и дарю ему откровенный взгляд. Поттер вздрагивает и краснеет. Обожаю это его выражение лица, когда он точно знает, о чём я думаю, но не позволяет себе в это поверить.
Тихий свист оповещает о том, что активировался камин, и вот из гостиной уже слышатся голоса. Я мгновенно напрягаюсь. За всеми волнениями и размышлениями я как-то забыл, что мы с Поттером не одни в мире. Он накрывает мою руку своей. Улыбается успокаивающе. И я мгновенно понимаю, что больше не одинок.
Нас двое отныне.
Отныне у меня есть он.
Смеясь и что-то бурно обсуждая, в кухню входят дети. Джеймс в алой мантии драконозаводчика — должно быть, подарок Чарли Уизли; Альбус, какой-то весь всклокоченный и загорелый, с опалёнными бровями; и малышка Лили, которая первая видит меня.
— Мистер Ангел! — вскрикивает она, и повисает тишина.
Я поднимаюсь на ноги. По привычке смотрю на трёх Поттеров своим коронным взглядом, будто на мне чёрная широкая мантия преподавателя Хогвартса, будто я их профессор, а они — провинившиеся ученики. Окинув меня взглядом, Гарри иронично улыбается.
Некоторые вещи не меняются.
— Мистер Снейп, маленькая мисс, — поправляю я мягко девочку, и она округляет губки в идеальном изумлённом «о».
Джеймс смотрит сначала на меня, отмечая короткие домашние штаны и льняную рубашку, которая чуть велика мне в плечах, потом переводит непонимающий взгляд на отца. А вот Альбус почти не выглядит удивлённым.
— Вокруг вас сильная аура, сэр, — говорит он негромко, — разрешите рассмотреть её?
Я киваю.
— Альбус Северус Поттер, полагаю?
— Да, сэр, — учтиво откликается мальчик и подаёт мне руку.
Я её пожимаю. Он обходит меня кругом, внимательно глядя сквозь, в пространство. Что он видит, для всех остаётся загадкой.
— У вас такая же золотая магическая аура, как у отца, — сообщает он после паузы. — Профессор Флитвик говорил, что люди со схожей аурой — большая редкость. Обычно она может быть одного цвета, но разного узора. А ваш узор почти полностью совпадает с папиным. Это невероятно!
— Ты видишь ауру, Ал? Почему ты никогда не говорил мне об этом? — обескураженно спрашивает Гарри.
Бросаю на него косой взгляд. Как ему новость? Его сын — довольно сильный врождённый легилимент. Однако любой алмаз нужно огранять.
— Должно быть, вам было всё это время нелегко, так ведь, молодой человек? — спрашиваю отстранённо. — Головные боли, недомогание и некоторый дальтонизм. Перенасыщение волшебством. Вы очень восприимчивы. Вам нужно учиться закрывать свой разум от влияния чужой магии, иначе ваш собственный потенциал так и останется нераскрытым.
Альбус кивает со спокойствием удава, и я снова слегка удивляюсь его необычной зрелости в столь юные годы.
— Я догадывался, что море не оранжевое, а небо — не фиолетовое, — говорит он с улыбкой, — профессор Флитвик объяснил мне, кто я такой. Он даже давал мне несколько уроков окклюменции, но он не большой специалист в этом, профессор Снейп.
— Почему Филиус не прислал мне сову? — снова подаёт голос Поттер. — Я должен был знать, что происходит с моим сыном.
— Он прислал сову маме, она в курсе, — говорит Альбус, — я не стал тебя беспокоить ещё и этим.
Смотрю на Гарри, который оказался совершенно обезоружен словами сына. У него такое лицо, словно его внезапно выбросили за борт с корабля, и я успокаивающе дотрагиваюсь до его плеча.
— Теперь мне всё понятно, — пространно продолжает Альбус, хотя присутствующим непонятно решительным образом ничего.
— Поясните, что именно, — прошу я негромко, и лицо Ала чуть мрачнеет.
— Уже много дней я видел вас здесь, профессор Снейп, только не понимал, что именно вижу. Это было похоже на сгусток чистой энергии. Профессор Флитвик говорит, что иногда так проявляют себя разного рода сущности. Но характер свечения не был похож ни на привидение, ни на полтергейст, ни на любое другое проявления отпечатка души. Когда Лили заговорила об ангеле… — Он кидает взгляд на сестру. Её рыжие волосы текут по плечам сплошным потоком, а большие и восхищённые зелёные глаза прикованы взглядом ко мне. — Я понял, что мы в доме больше не одни.
Подхожу к мальчику, присаживаюсь возле него на корточки и смотрю ему в глаза. Так проходит несколько мгновений, а потом глаза Ала округляются.
— Ого! — выдыхает он.
— Что происходит? — спрашивает Гарри тревожно. Но я оборачиваюсь и улыбаюсь:
— Мы поговорили.
— Профессор Снейп сказал, что с удовольствием обучит меня защите разума, — говорит Альбус уже более живо. — Я много читал о вас, сэр. Вы — величайший менталист современности, и для меня будет честью учиться у вас.
С этими словами Альбус церемонно склоняет голову, и я не удерживаюсь от улыбки.
Джеймс в абсолютном изумлении спрашивает наконец:
— Снейп? Тот самый Северус Снейп? Но… — Под моим внимательным взглядом он вспоминает о вежливости. — Простите, профессор…
— Не стоит, мистер Поттер, — говорю я насмешливо, поднимаясь на ноги, — продолжайте.
— Вы же умерли! — выпаливает он сконфуженно.
Похоже, к объяснению моего чудесного воскрешения прилагается и долгая история кризиса личности, через который прошли оба: и я, и их отец. А других слов у нас нет. Искоса наблюдаю, как Поттер пытается понять, как всё представить детям, но ситуацию спасает Лили.
Со свойственной ей непосредственностью она кидается вперёд и обнимает меня за ноги, запрокидывая голову:
— Ангел, ты живой! — лепечет она, игнорируя мои предыдущие слова о том, как нужно ко мне обращаться. — Ты теперь всегда будешь с нами!
Нагибаюсь и поднимаю её на руки. Она лёгкая и солнечная. Ощущая гибкое, тёплое тело девочки на руках, улыбаюсь так, как не улыбался, наверное, никогда в своей жизни.
«Ты меня простила, да, Лили?» — спрашивает моё сердце у мисс Эванс.
Небеса глухи. Душа давно умершей женщины тоже не отзывается, но мне становится легко.
— Если папа позволит, тогда останусь.
И все смотрят на Гарри.
Джеймс выглядит до того сбитым с толку, что даже смешно. Альбусу не терпится меня расспросить с научной точки зрения. Думаю, что мы ещё не один час проведём в разговорах о ментальной магии и аурах волшебников. У него потрясающий талант! А Лили… Лили обнимает меня маленькими ручками за шею, и я никогда ещё не чувствовал себя таким мягкотелым.
Гарри подходит, кладёт ладони на плечи Джеймсу и улыбается.
— Если ты сам захочешь остаться, Северус.
И я понимаю: я хочу.
* * *
— Ты не обязан быть со мной только потому, что я вернулся.
— Давай попробуем.
Останавливаюсь.
Меня постоянно гложут сомнения. Отношения, сложившиеся так быстро, получающиеся на удивление тёплыми, начинают меня пугать. Лишившись вечности, я потерял способность мыслить кристально и видеть вглубь. Гормоны, перепады настроения, бесконечные колебания — всё это выводит меня из равновесия, и я начинаю раздражаться на самого себя. Когда делюсь этим с Гарри, он только хмыкает.
— Добро пожаловать обратно в человеческий мир, Северус.
Люди — крайне нестабильные существа. Мы склонны постоянно кидаться из крайности в крайность, идти на поводу у своих телесных желаний или соблазнов. Слабы, слегка безвольны, ленивы, и я уже забыл, сколько душевных сил нужно, чтобы с этим справляться. Кое-что приходит само: например, легилименция, магический потенциал, зельеварческие таланты, знания, навыки… Но я забыл, что резко включённый свет может ослепить, воду в душе нужно настраивать, ходить босым по раскалённому песку — больно, что не стоит приближаться вплотную к огню, а на мокром паркете можно здорово поскользнуться. Если упасть, будет синяк. Если долго лежать на солнце — обгоришь, если раскрыть кому-то душу — сделают больно…
Мы снова идём по побережью вдвоём. Эти тихие вечера останутся со мной до самой смерти, я знаю. Море, шум прибоя, мягкий шорох песка под ногами и Гарри, идущий рядом. Меня как будто укрывает тёплым одеялом чувство умиротворения. Почти сорок лет жизни, пятнадцать лет смерти, и я там, где должен быть.
— Ты уверен, что хочешь этого? — спрашиваю серьёзно. — Если мы будем продолжать отношения, ты окажешься в крайне уязвимом положении.
Гарри внимательно смотрит на меня, и я понимаю, что должен пояснить.
— Пройдёт время, схлынет лишняя романтика, и ты узнаешь, кто я такой. Со мной… непросто.
— Я догадываюсь. — Он иронично улыбается, склонив голову к плечу.
— Боюсь, что нет, — возражаю я мягко. — Я старше. Разница в возрасте сыграет свою роль, её нельзя недооценивать. Кроме того, меня совсем нельзя назвать благородным человеком, и то, как ты ведёшь себя… в какое положение себя ставишь… — очень тщательно подбираю я слова. — Боюсь, у меня нет столько благородства.
Хмурюсь. Не уверен, что выражаю свои мысли правильно, но Гарри снова только улыбается.
— Ты о том, что я люблю тебя сильнее?
В точку.
— Я бы выразился не так прямолинейно.
— Северус, я знаю, что ты не отвечаешь мне взаимностью в полной мере. Знаю, что ты не скоро ещё сможешь сделать это. Но я готов дать тебе сколько угодно времени. Ждать я умею. И ухаживать тоже. — Он усмехается и лукаво добавляет: — Тебе понравится. И потом: разница в возрасте, серьёзно? Мне почти тридцать три, я вырос. Тебе тридцать восемь — ты застрял. Разница сократилась.
— Я ведь не изменился со времён твоей учёбы в Хогвартсе, Гарри. Ко мне стремительно возвращаются мои привычки и дурной характер. Я тяжёлый человек, который всегда был в одиночестве. Ты сбежишь, как только поймёшь это.
— Ты не изменился, Северус? — переспрашивает Гарри. Потом переплетает наши пальцы на руках и прижимает к груди. — Ты бы мне позволил это раньше? А это? — Он целует мои бледные запястья. Сначала одно, потом другое.
Мне становится неловко. Я осторожно высвобождаю руки.
— Прекрати… Я не об этом.
Гарри выпускает мои ладони и прячет руки в карманы шорт. Потом спрашивает:
— Ты предпочитаешь женщин?
Решаю помучить его небольшой паузой.
— Я предпочитаю тебя.
Ему нравится мой ответ, я вижу искры, разлетающиеся в его взгляде.
— Ты только что говорил, что отношения между нами невозможны.
— Когда? Я сказал, что ты сбежишь.
— А, ну тогда всё в порядке.
Гарри старательно сдерживает смех, даже губу закусил, и я качаю головой, признавая поражение.
— Ты всё превращаешь в какой-то цирк, Поттер.
Он целует меня глазами, потом на миг прислоняется ко мне плечом, и мы снова идём по пляжу, как когда-то давно, в прошлой жизни. Когда я ещё не мог чувствовать тепло ласкающего солнца, ветер, путающийся в волосах, и запах моря.
— А правда, Северус, — всё-таки спрашивает он, — у тебя раньше не было связей с мужчинами? Ты не знаешь, как это бывает?
Хочу съязвить, что мне шестой десяток, и я по определению не могу не знать, как это бывает, но удерживаюсь.
— Ну, скажем так: на Слизерине были достаточно свободные нравы, намного более свободные, чем на других факультетах, потому что детей из чистокровных магических семей там было всегда больше. Чистокровные не подвержены предрассудкам маглов относительно гомосексуальных связей. У волшебников могут быть наследники по магии, по вступлению в род, поэтому союз мужчины с женщиной не столь важен, так что всякое случалось. Но не со мной. Я был слишком отталкивающим и долгое время совсем не интересовался отношениями.
— То есть эта мысль тебе не кажется неприемлемой?
— Нет. Не кажется.
— Но ты невинен, как агнец, Северус?
— Я бы так не сказал.
— Расскажешь?
— Зачем?
— Так не честно. Ты знаешь про меня всё с момента рождения, а я — нет.
Перестаю улыбаться.
— Не надо тебе обо мне знать всё, Гарри.
Его улыбка тускнеет. Он хорошо понимает, что я имею в виду в собственном прошлом, чего бы точно не хотел показывать никому.
— Я надеюсь, что ты когда-нибудь сочтёшь меня достаточно близким, чтобы поделиться и этим.
Я не отвечаю, но его слова трогают что-то в душе. «Никто бы этого не захотел, кроме него», — приходит внезапная мысль.
Гарри отворачивается и долго молчит, а потом всё-таки задаёт вопрос, которого я ждал всё это время:
— Северус, мне хочется знать: ты что-то чувствуешь ко мне? Хотя бы немножко?
Я обнимаю его сзади за плечи, опускаю подбородок на вихрастую макушку. Его волосы, тревожимые ветром, щекочут мои губы. Мы оба смотрим в море.
— Я чувствую себя обласканным и сильным от того, что ты в меня влюблён. Я и подумать не мог, что это может быть так. Мне всегда казалось, что любовь делает людей слабыми и уязвимыми, но сейчас я понимаю, что происходит с человеком, который любим: он всемогущ и свободен. И если можно так сказать, я бесконечно благодарен тебе за это чувство. Знаю, это неправильно — благодарить за любовь. На любовь нужно отвечать. И я готов, я могу тебе дать всё, что ты попросишь. Только ты должен чётко отдавать себе отчёт, с кем вступаешь в отношения. Подумай, Гарри, нужен ли тебе старый, ворчливый зельевар.
— Но всё это немного рано для тебя, так ведь? — Поттер находит в моём сбивчивом монологе самую суть и ожидаемо отмахивается от «старого и ворчливого». — Северус, ты не обязан быть со мной только потому что вернулся. — Он возвращает мне мою же фразу, и я слегка усмехаюсь. — Я тебя ни к чему не принуждаю.
— Я знаю, — киваю. — Но, Гарри, я знаю кое-что ещё: ты ждал пятнадцать лет, и я здесь перед тобой. Возьми всё, если хочешь, я не буду тебе препятствовать. Ты предложил попробовать. Давай попробуем, хоть я пока совсем не уверен, выйдет ли из этого что-то хорошее.
— Давай просто остановимся на том, чтобы стать друг для друга кем-то, а потом посмотрим. — Он с улыбкой разворачивается в моих руках. В его лучистых глазах расплескалось солнце. — Я хочу, чтобы всё было взаимно. Ты ведь ко мне не привык.
— Привычка вырабатывается в процессе.
Я улыбаюсь с намёком, и Гарри качает головой, ласково гладит меня по щеке, но больше беседу в этом ключе не поддерживает.
Мы молча бредём рука об руку, уютно молчим, думаем каждый о своём. Я размышляю о том, насколько извилиста дорога судьбы человека и насколько своеобразное чувство юмора у Бога. Гарри Поттер… кто бы сказал мне об этом раньше. Проклял бы.
Мы доходим до прибрежного кафе, которое уже закрыто в такой поздний час, и до нас доносится звук звонкой пощёчины, а потом недоумённый тихий вскрик.
— Ничего себе! Ты серьёзно?
Голос Джеймса выражает только изумление, ни капли злости. Две тонкие фигуры угадываются под навесом. Они сидят за крайним столиком, который стоит уже на песке, а не на деревянном полу. Девушка вскакивает из-за стола и хочет бежать, но Джеймс цепко хватает её за руку.
— Оставь меня!
— Да погоди ты, объясни, что происходит? Ты меня игнорируешь уже два дня. Я прихожу и вижу, что тебя обнимает этот бугай Саймон! Что я сделал?
Она ещё вырывается некоторое время, но мальчик хватает её то за руки, то за плечи и настойчиво разворачивает к себе.
— Не смей приближаться ко мне без моего согласия, Джеймс Поттер! — шипит Мария, и мы с Гарри, взглянув друг на друга, не сговариваясь, бесшумно отходим в тень, за угол. — Ты думаешь, если нравишься мне, можешь вот так просто хватать меня руками? Кем ты себя возомнил?
Согласно киваю, прячась рядом с Поттером за углом в зарослях дикого винограда.
— Справедливое замечание.
— Она ударила моего сына ни за что! — так же шёпотом возмутился Гарри.
— Она девушка, Поттер, ты помнишь, как строить отношения с девушками?
— Поэтому я и гей.
Мы снова заинтересованно наблюдаем за разворачивающейся драмой и замолкаем. Счастье, что луна зашла за тучу, и побережье погрузилось в полумрак. При свете нас, конечно, было бы видно. А в нескольких шагах от нас Джеймсу удалось наконец слегка успокоить Марию.
— Прости, прости меня, я не должен был так. Но ты… не обращаешь на меня внимания. И я не понимаю, что происходит.
— Тебя не было два дня! Ты даже не дал мне свой номер телефона. Наврал, что его у тебя просто нет!
— Но у меня правда его нет.
— Ерунда какая, Джеймс! — Она всплёскивает руками. Во мраке я вижу только тонкий девичий стан, прижатый рукой мальчишки к его телу, и кошусь на Поттера. Тот смотрит во все глаза. — У всех есть мобильный телефон. Ты просто не хочешь общаться.
— А здесь я сейчас тоже потому, что не хочу общаться? — задаёт вполне резонный вопрос Джеймс. — Да, я не появлялся два дня, потому что неожиданно пришлось уехать, и не было времени предупредить. А потом заболел папа, и…
— Ну конечно. Ври больше, Джеймс. Ты просто… просто я тебе не интересна! Думал, поцеловал меня, так всё, можно больше и внимания не обращать?
— Что ты такое говоришь, Мария?!
Но она уже полностью поглощена своими переживаниями и ничего не слышит. Уперевшись Джеймсу ладонями в грудь, девушка рассерженно продолжает:
— Ты уедешь через несколько дней, и что? Ты уедешь в Лондон, а потом в свою закрытую школу, о которой не хочешь ничего мне рассказывать. Мы даже не увидимся больше. А на следующий год ты обо мне и не вспомнишь! Лучше сразу расстаться.
Она отталкивает его так сильно, что мальчик едва не падает, запнувшись о порог возвышающегося над землёй деревянного настила, на котором стоит кафе, и бежит к морю. В этот момент луна выходит из-за тучи и освещает всё вокруг тусклым светом. Я торопливо отхожу подальше за угол, но Гарри не успевает. Глаза отца и сына встречаются. Одно краткое мгновение Гарри стоит растерянный, а потом прижимает палец к губам, решительно показывает на Марию и прижимает обе руки к груди, имитируя сердечные терзания.
Мне от этой пантомимы становится смешно, но я прячу улыбку. Слава Мерлину, Джеймс не видит меня, а то бы смутился окончательно.
— Ступай за ней, — шепчет Гарри едва слышно, а потом пытается жестами показать нечто вроде признания в чувствах. — Давай, девчонкам это нравится, — добавляет он чуть более громким шёпотом.
Рискнув выглянуть из-за угла, я вижу, как Джеймс бегом догоняет Марию, ушедшую совсем недалеко, как ловит её за руку и притягивает к себе.
Что он ей говорит, нам не слышно, но девушка неожиданно обмякает в его руках, и мальчик, наклонившись, целует её в губы. Две тоненькие фигуры надолго приникают друг к другу. Поттер, наблюдая эту картину, вздыхает:
— У меня взрослый сын.
— Да, объясни ему, что такое презервативы.
Он ошалело смотрит на меня.
— Ему четырнадцать!
В ответ я лишь показываю ладонью на целующихся подростков. Они отрываются друг от друга, Джеймс ещё что-то шепчет на ухо смущённой Марии, потом обнимает её за плечи, и они медленно идут вдоль побережья, совсем как мы получасом ранее. Мальчик вдруг оборачивается, находит отца взглядом, видит и меня рядом с ним, потом, ничуть не смутившись, криво улыбается.
Поттер усмехается, подняв вверх большой палец.
— Да, ты прав, — говорит Поттер, глядя, как Джеймс кладёт руку Марии на тонкую талию. — Надо было провести «тот самый разговор» чуть раньше. Теперь, боюсь, меня поднимут на смех.
Ночь подкрадывается в сказках, читаемых для малышки Лили, в тихо гаснущем солнце, в морском ропоте и медленной, уютной звёздной темноте. Я держу книжку слегка неловко, чувствую себя чуть непривычно в новой для меня роли: никогда ещё не читал сказок на ночь для юных леди. Лили заявила после ужина, что укладывать её спать сегодня буду я, и никто не стал возражать. Она лежала в пижаме, разрисованной единорогами, прелестной головкой у меня на груди, и сияющими глазами смотрела на иллюстрацию Питера Пэна, окружённого мальчишками, феями и русалками. Она и сама была как русалка. Её длинные волосы рыжей медью струились по моему плечу, пахли морской солью и чем-то сладким. Сама девочка спать даже не собиралась. После каждого предложения непременно комментировала то или это. В ней таилось великое множество различных затей, шалостей, детских забав и наивных вопросов. Она смотрела на меня широко раскрытыми, восхищёнными глазами, полными доверия и любви, а я никак не мог понять, чем заслужил подобную любовь. Как будто она унаследовала её от своего отца незамутнённой, такой, какой, наверное, её задумывал сам Господь.
Дочитав очередную главу и взглянув на часы, я решительно закрыл книгу.
— Вам пора спать, маленькая мисс.
— Мисс Поттер, — поправляет она меня лукаво. — Моих братьев ты называешь мистерами, почему не называешь меня?
— Вы мой друг, Лили.
Она радостно улыбается, совершенно неожиданно целует меня в щеку, потом укладывается под одеяло, прихватив игрушечного Флаффи.
Я гашу свет в комнате, желаю ей доброй ночи и когда почти ухожу, слышу:
— Боженька, спасибо тебе за то, что позволил мистеру Снейпу остаться. Теперь папочка не будет таким грустным, и мы все станем счастливыми.
Счастье родителей определяет счастье детей.
Я могу развернуться и уйти, больше никогда не появляться в их жизнях, но колесо уже катится. Поттер будет знать, что я жив, и будет спокоен, будет способен дышать полной грудью. Джинни, видя счастье бывшего супруга, тоже сможет сдвинуться с мёртвой точки собственных обид. Будут счастливы их дети, лишь потому, что родители больше не объяты ненавистью и горем.
Приваливаюсь плечом к стене. Насколько велик был замысел Его, не так ли? Всего лишь случайная встреча на морском побережье, и шесть спасённых душ…
Я понял, в чём было моё предназначение: я должен был пожелать жизни.
Я больше не слышу Песни на рассвете, не ощущаю благодатного тепла, но я вижу Его везде. В цветах, рассеянных, словно веснушки, по полям, клумбам, обочинам дорог, в шуме деревьев и шелесте трав. В море и в воздухе, в грозе и абсолютном штиле. В глазах зелёных, любящих и столь преданных, что замирает душа, в двух удивительных мальчиках и их маленькой сестре. В белом доме. В собственном сердце.
— Ты чего здесь стоишь?
Оборачиваюсь. На лестнице, нелепый и смешной, домашний и уютный, как потрёпанный тёплый плед, застыл Поттер. У него влажные после душа волосы и лучистый взгляд. Мотаю головой, сглатывая сухим горлом.
— Ничего. Идём спать.
Он не возражает. Уже в спальне я ложусь на кровать, а он устраивается рядом. Медленно проводит рукой по моим волосам, и я ощущаю… О, Мерлин, я чувствую тёплую упругость его пальцев, его нежные поглаживания, то, как он пропускает пряди, осторожно, чтобы не потянуть, мягко отпускает кончики и повторяет. Пальцы погружаются вновь, скользят, чуть тянут.
Ощущение заставляет меня замереть. Мурашки расползаются вдоль позвоночника и жар, рождающийся в теле, оседает на щеках.
— Приятно? — спрашивает он тихо, и слова тонут в тишине бархатной ночи. Руками продолжает гладить мои волосы, раз за разом начиная сладкую пытку заново.
— Да.
Поттер полусидит, прислонившись к изголовью кровати и вытянув ноги, я подвигаюсь и кладу голову к нему на колени. Нежная рука возвращается раз за разом, и я закрываю глаза. С каждым разом ощущения, которые я испытываю, становятся всё сильнее. Он просто гладит меня по голове, а я чувствую, как внутри всё подбирается, теплеет, чтобы распуститься лёгким возбуждением. Пока лёгким.
— У тебя красивые волосы, Северус.
— В самом деле?
Следует пауза, в которой он, наверное, кивнул.
— Мягкие и блестящие. Я не думал, что они будут такими на ощупь.
— А какими они, ты думал, должны быть?
Если б мне кто-нибудь сказал однажды, что я после смерти и воскрешения буду обсуждать с Гарри Поттером красоту своих волос…
— Почему ты улыбаешься?
Голос у Поттера едва слышный. Он вплетается в тишину, как золотая нить — в белоснежное кружево. Я не знал раньше, что можно чувствовать такое волнение, лишь услышав чей-то голос.
— Ничего.
Рука исчезает, погладив в последний раз, волосы падают мне на лицо, и он рассеянно отводит их пальцами, задевая меня по щеке ногтями. Мои плечи расслабленно опускаются, и Поттер чуть наклоняется ко мне:
— Что, Северус?
Он как будто настроен на меня, на мои эмоции, на самый лёгкий вздох, едва заметное движение ресниц — он всё замечает.
Открываю глаза и вижу его лицо, со следами прожитых лет. Морщинки на лбу и между бровями, чуть уставшее выражение в зелёных глазах. От мальчика, которым я его помню, нет почти ничего. «Улыбка, — понимаю вдруг отчётливо, — улыбка всё та же. Мальчишеская».
Долго смотрю на него, скольжу взглядом по лбу со знаменитым шрамом, носу, щекам, губам. Я как будто его запоминаю, как будто я художник, и мне нужно рисовать его лицо по памяти. Гарри позволяет мне себя рассматривать, и взгляд у него такой… Будто он счастлив только от одного моего взгляда.
— Поцелуй меня.
Уголки губ его приподнимаются, но исполнять просьбу он не торопится. Снова прикасается к моей макушке, отчего меня обволакивает теплом от его ладони.
— Северус…
Помню, что он любит моё имя. Он говорил однажды в тёмную ночь, что считает его красоту идеальной, а я стоял рядом и слушал, не понимая, что это он обо мне. Как же он любит меня… Я стал это забывать. Но сейчас вспоминаю.
— Гарри.
Он наклоняется и касается губами моего лба, скользит к щеке и целует, целует моё лицо. Глаза я снова закрываю. Каждое лёгкое касание возносит меня куда-то вверх, совсем как возносили мои крылья, мощными рывками сквозь воздух и облака.
— Гарри…
Наконец, он целует меня в губы, и это то, чего я хотел. Тихий стон вырывается из груди. Внутри меня как будто медленно разгорается пламя из одного-единственного уголька.
Приподнимаюсь на кровати, тянусь к нему, углубляю поцелуй, требую, беру и настаиваю. Он осторожно подхватывает меня под спину обеими руками, поддерживает, целует уже по-настоящему, страстно, не сдерживаясь. Перед глазами у меня вспыхивают какие-то яркие пятна, сознание мутится, ощущения такие сильные, что в голове не остаётся ни единой мысли.
— Ещё, Поттер. Гарри, ещё…
Я обхватываю его за плечи, привлекаю к себе так, что ему становится неудобно, и он вынужден лечь рядом. Перекатываюсь на бок, приникаю к его губам, целую его сам, требовательно и жёстко, почти грубо. Он мою атаку не принимает, только нежно ловит лицо в тёплые ладони. Я нависаю над ним, укладываю его на спину, целую в шею, потом отрываюсь и говорю прерывисто:
— Хочу тебя, хочу… Пожалуйста.
Он чуть улыбается, смотрит ласково, но не делает никаких попыток поддержать любовную игру. Я вижу и чувствую, как резво его тело откликается на мои прикосновения, но Гарри только осторожно отводит назад мои волосы, вновь погружаясь в них пальцами.
— Северус, ты ко мне не привык, я не могу… вот так…
Закрываю ему рот поцелуем, который чуть не лишает нас обоих сознания. Не знаю, что такое со мной случается, кажется, я ни разу в жизни никого настолько не желал. Беру его руку и кладу себе на плечо. Волосы снова падают вперёд, и я резким движением откидываю их за спину. Целую загорелое запястье.
— Ты ждал этого, верно? Сколько раз ты мечтал обо мне в твоей постели? Неужели не поддашься желанию, когда я сам прошу?
Удивительно, как тело вспоминает всё то, что когда-то делало раньше. Пальцы чутко скользят под воротник его рубашки, успевают расстегнуть несколько пуговиц ловкими движениями. Я точно знаю, как трогать, чтобы сводить с ума, какие точки целовать и как касаться, чтобы тело подо мной начало дрожать от возбуждения. Но сейчас я хочу почувствовать всё это сам.
Лицо Гарри румяное, губы раскрыты. Ладонь несмело крадётся по моему телу вниз. Я не отпускаю его взгляда. Мягко обхватив его за плечи, ложусь на спину, тяну Гарри с собой и укладываю сверху, не давая вывернуться. Его глаза слегка расширяются, в них мелькает понимание. Я улыбаюсь.
— Ты…
— Хочу тебя, Гарри. Хочу, чтобы ты сделал со мной всё, что хочешь и как хочешь. Хочу позволить тебе всё.
Его дыхание сбивается на миг, мне кажется, я слышу стук его сердца — такое оно отчаянное и взволнованное. Он гладит меня по плечам, обнимает поперёк груди, потом сползает ниже, кладёт голову мне на живот.
— Северус, я… но ты ведь…
— Я видел твоё сердце. Я читал твою душу. Пока я помню всё это, и человеческая жизнь ещё не отняла у меня память того существа, которым я был — я хочу почувствовать. Я знаю тебя, Гарри. Знаю так, как никто из людей. Я видел самую суть твоей любви ко мне и теперь не упущу ни времени, ни судьбы, ни счастья.
Мне больше не нужно иметь исполинских крыльев за спиной, чтобы понимать, что он чувствует и о чём думает. Он смотрит на меня, как годами бродивший по подземельям человек смотрит на солнце: будто не может поверить, что оно есть.
— Я здесь, — жарко шепчу я ему на ухо, — это действительно я. Сколько ты сказал мне, Гарри, сколько твоих признаний я выслушал, не подозревая, что они предназначены мне? Какие слова ты подбирал... Я помню их все, всё, что ты говорил мне, все твои самые сокровенные, стыдные, безумные желания. Не прячь глаза, ну-ка, чего ты вздумал пугаться? Это уже произошло, я знаю о них всё и чувствую тебя, чувствую их в тебе.
Его сотрясает дрожь, которая передаётся и мне. Теперь мы вместе горим в огне и воскресаем, как фениксы. Тень сомнения всё ещё читается в его глазах, и я прижимаю его к себе, быстро целую в губы и, оторвавшись на полдюйма, говорю:
— Возьми всё, что хотел.
То, что происходит потом, останется со мною на всю жизнь. Нежные, трясущиеся от волнения и нетерпения пальцы, объятия — жаркие, невыносимые, желанные. Поцелуи в тех местах, где, мне казалось, нельзя поцеловать. Он накрывает меня собой, как нагретый на солнце песок накрывает морская волна. И покачивает, раз за разом накатывая и отпуская. Ласкает, проникает, забирает в сладкий плен. А я просто сдаюсь и чувствую себя победителем.
Руки, бережно подхватывающие под спину, губы, ловящие мой первый стон: «О-о-о…». И сбивчивый, прерывающийся страстным дыханием шёпот:
— Я буду любить тебя, любить так сильно, как только могу, от макушки до пят, всего, всегда. Моё божество, моё совершенство. Мой Северус…
Chapter 12: Эпилог. О Крыльях
Chapter Text
На следующее утро я просыпаюсь от нежных поцелуев. Лежу совершенно голый и — никак не подобрать иного слова — затраханный. Наша ночь не желала заканчиваться. Я засыпал, сжимая Поттера в объятиях, и через некоторое время просыпался от ласк. Он целовал меня в затылок, шею, спину, перемежая поцелуи каким-то сладостным шёпотом, и я, не особо вслушиваясь в слова, просто позволил себе плыть в густом мареве наслаждения и неги. Всё повторялось заново. Казалось, я сгорал несколько раз до тла, а потом возрождался, чтобы гореть снова. Поттер неутомимо нежил меня всю ночь, проникал в меня пальцами, языком, членом, душой, взглядом, словами. Иначе, чем сумасшествием, я не могу назвать то, что со мной случилось. Будучи всегда человеком довольно сдержанным, я помню, как стонал, как шептал ему на ухо непристойные нежности, жадно шарил руками по его телу и умолял… Мерлин! Умолял его…
Щёки мои опаляет румянцем, и Гарри, внимательно наблюдающий за мной, тихо усмехается:
— Уже поздно смущаться.
С утра всё выглядит слегка иначе, чем горячечной, безумной ночью. Кажется, что с полночью приходит конец всему, заканчивается жизнь и можно не думать о последствиях. Но любая ночь имеет конец, и вместе с серым утром приходит осознание всего произошедшего.
Гарри лежит рядом, выцеловывает на мне какие-то узоры, улыбается, гладит меня по плечам, рукам, волосам, животу. Я весь обласкан, мурашки прокатываются сладостной волной по телу. Закрываю глаза.
— Как ты, Северус? — спрашивает он негромко, играя кончиками моих волос. Он говорил, что больше всего любит во мне именно волосы, хотя, что в них особенного, до сих пор не могу понять.
Смотрю на него из-под ресниц.
— Ты меня заездил. У меня всё болит.
Он окидывает меня озабоченным взглядом, потом встаёт с кровати и идёт в ванную. Я любуюсь его стройным обнажённым телом. Поттер хорошо сложен, хоть и невысок. Меня посещают волнующие воспоминания о прошедшей ночи, никак не могу перестать думать об этом. Запрокинутая голова, зажмуренные от наслаждения тёмные глаза, моё имя сорванным голосом едва слышно падает во влажную, жаркую полутьму. И его руки повсюду, сильные, нежные, совершенные. Я подаюсь им навстречу и вместо потолка спальни вижу звёздное небо…
Поттер возвращается с высоким флаконом перламутрового зелья и чайной ложечкой, присаживается на кровать, наполняет ложку и протягивает мне. Послушно открываю рот: от зелья пахнет мятой и ромашкой.
— Обезболивающее и мышечный релаксант, — легко определяю, — кто варил?
— Я. Полежи спокойно. Сейчас всё должно пройти. Пожалуй, мы слегка увлеклись ночью.
Усмехаюсь:
— Я этому рад. — Ломота во всём теле начинает постепенно отпускать. — Хорошее зелье. Только ты забыл лепесток белладонны, тогда бы эффект был мягче. Когда это ты так натаскался?
Поттер поворачивает меня на бок, осматривает. Я вяло протестую, но он держит крепко. Действительно, поздно смущаться, когда меня всего, с моего же разрешения и к моему же удовольствию, рассмотрели в подробностях.
— Ты меня с ума свёл, Северус, — расстроенно говорит он. — Больно?
— Не до такой степени, чтобы настолько волноваться. — Я ложусь обратно на спину. — Ты не ответил.
Он закутывает меня в одеяло, хотя в комнате жарко, и отходит, чтобы вернуть на место флакон.
— Я по зельям в школе авроров был единственным отличником. Меня здорово твой учебник выручал.
— То есть ты жульничал.
— Выполнял рекомендации не профессора, а твои, — он с нежностью отводит волосы с моего лица и целует в щеку, потом в нос и в лоб. Лежу, не двигаясь. Мне хочется схватить его и сжать в объятиях, но я сейчас сверх всякой меры мягкотел и расслаюлен. — Многие рецепты знаю наизусть, твои, я имею в виду. Они меня не раз выручали.
— Почему?
Он слегка вздыхает и отстраняется.
— Я в первый год, когда поступил на службу в аврорат, не особо берёгся. В меня какие только проклятия не попадали. Несколько раз чуть на тот свет не отправился. В итоге я сам наловчился себя лечить. По пустякам уже в больницу не обращался.
Внимательно его разглядываю. Он не хотел жить, вот и лез везде, где погорячее. Поттер хорошо умеет разгадывать мои взгляды, поэтому слегка краснеет, но мы не говорим об этом. Я словно невзначай роняю:
— Надеюсь, ты понимаешь, что больше я тебе не позволю так безалаберно относиться к себе.
Он только улыбается, потом каким-то совершенно беззащитным жестом откидывает волосы со лба, ложится рядом и утыкается в моё плечо.
Завтракаем мы все вместе. Гарри снова готовит яблочный штрудель. Его очень любит малышка Лили. Он щедро сдабривает его сливками, раскладывает по тарелкам. Поттер весь светится изнутри, крутится юлой по кухне и постоянно норовит ко мне прикоснуться. Я принимаю эти знаки внимания со сдержанной улыбкой. Джеймс смотрит на отца слегка насмешливо, с пониманием, но после завтрака уносится гулять с Марией и друзьями.
Мы же, прихватив с собой бутылку лимонада, солёные крекеры и плед, располагаемся на пляже и лежим на солнце. Я наслаждаюсь теплом ласковых лучей, мимолётными прикосновениями Гарри. Он всё никак не может насытиться мной. Гладит и ластится, даже смотрит иначе: с прежней любовью, но теперь с оттенком восхищения, желания. И постоянно целует: плечо, висок, руки, кончики волос…
— Поттер, уймись. Мы кувыркались всю ночь. Мне больше пятидесяти, имей совесть.
Он усмехается.
— Благородный старец Северус Снейп, — произносит он, за что получает подзатыльник. — Я должен испытывать ужасное отвращение.
— Это вряд ли. Ты ждал меня пятнадцать лет, а потом лишил невинности.
— И теперь я обязан жениться? — веселится Поттер.
— Конечно. Теперь ты от меня не отделаешься.
Некоторое время лежу с закрытыми глазами и не сразу понимаю, что тишина поменяла оттенок. Приоткрываю глаз. Поттер смотрит на меня без улыбки, с каким-то болезненным выражением лица. Приподнимаю брови в немом вопросе.
— Я ждал тебя пятнадцать лет, — шепчет он.
Притягиваю его к себе и целую в губы.
— Я здесь.
Мы долго лежим на песке, пока солнце не прихватывает кожу загаром, потом Поттер стаскивает с себя шорты.
— Пойдём купаться, Северус. — И, взметнув песок, срывается с места. Подбегает к Лили и Алу, лепящим у кромки моря песочного снеговика, подхватывает дочь на руки, и она заливается смехом.
Ал бежит за ними в волны. Они плещутся втроём довольно долго, Гарри ныряет, отфыркивается, изображает кита, и Лили катается на нём, хохоча и взвизгивая. Мне тоже становится жарко.
Ступив в воду, я внезапно ощущаю невыразимый восторг. Прохлада песка нежит босые ноги. Мягкий ветер овевает лицо, и я невольно закрываю глаза. Сердце бьётся, как сумасшедшее. Чувствую себя живым. По моим жилам течёт кровь, лёгкие наполняются воздухом при каждом вздохе, в груди жадно и гулко бьётся человеческое сердце.
Иду вперёд. Каждый шаг — борьба с сопротивлением волн, которые игриво обхватывают ноги. Вода поднимается всё выше, одаривая свежестью и лаской. Достигает пояса, и я останавливаюсь, дышу глубоко, свободно, чувствуя аромат морских волн и нагретого солнцем воздуха, замираю, ощущая себя частью этого огромного, чудесного мира.
Впереди — бескрайний простор, позади — золотой, пышущий жаром пляж. Шум прибоя оглушает и кажется самой красивой на свете музыкой, древней и прекрасной. Дымчатая линия горизонта сливается с расписанной солнечным золотом водой.
Внезапная волна толкает меня в грудь, и я улыбаюсь. Замечаю Гарри, он стоит поодаль, отправив детей греться на берег, смотрит на меня с пониманием. Как будто чувствует через меня моё тихое волнение, мою заново открываемую «человечность».
— Море, Северус, — говорит он неопределённо, но я киваю. Понимаю.
Поднимаю лицо к высокому небу, по нему ленивыми каравеллами плывут большие облака.
— Больше всего в посмертии я любил свои крылья, — говорю тихо, — приходил на рассвете на побережье, призывал их и взлетал. Не было ничего прекраснее, чем чувствовать, как они раскрываются за спиной, как в них вибрирует воздух. Это как вдохнуть жизнь полной грудью, как расправить плечи после долгого заточения.
Первый взмах — танец с ветром. Я отдавался полёту и свободному парению, и он подхватывал меня, вознося всё выше и выше. Внизу оставались облака, а я взмывал, поднимался над землёй, туда, где раскрывается бесконечное пространство, где чувствуется дыхание самого Творца.
Я любил смотреть, как подо мной раскидываются города, словно игрушечные домики, как извиваются реки, как зеленеют леса. Иногда я спускался ниже, почти касаясь верхушек деревьев. Чувствовал их прохладу, слышал шёпот листьев. И понимал, зачем мне эти крылья. Не только для того, чтобы летать в вышине, но и для того, чтобы быть ближе к тем, кого я должен оберегать. Я знаю, что частичка меня навсегда останется в этом бескрайнем, прекрасном небе.
Гарри легонько касается моей руки мокрыми пальцами. Лицо его такое, словно он увидел перед собой величайшее сокровище миров. Я долго его разглядываю. Красивый, стройный, с тонким белым шрамом на лбу, чёрные волосы, облепившие шею, пронзительные зелёные глаза. Протягиваю руки и беру его лицо в ладони, вглядываясь в него, как в манящий омут.
— Прости, — вдруг оживает Гарри, — у тебя больше нет крыльев, Северус. Мне очень жаль.
Касаюсь его солёных губ своими.
— Есть. Ты мои крылья, глупый.
* * *
«....Вчера пришёл домой, а ты спишь. Красивый такой: одна рука свесилась с подлокотника, волосы твои чудесные рассыпались по плечам и по спинке кресла. Ты знаешь, что у тебя длиннющие ресницы? Чёрные, густые, совершенно безумные! Я с ума схожу по тебе… Сел возле кресла и смотрел целый час, как ты спишь. А потом, когда ты пошевелился, сбежал на кухню. Ты бы проснулся и снова стал бы насмехаться: влюблённый Поттер, носится как с писанной торбой! А что я? Я просто тебя люблю. Ты ведь знаешь…»
«Джеймс никак не может забыть Марию. Хандрит. Джинни спрашивает у меня, что я такое сделал с беззаботным жизнерадостным рёбенком, что он теперь не ест и не пьёт, только пишет без конца что-то в своей комнате. А он мне рассказал по секрету: книгу пишет. Может, станет писателем? На мой вопрос ответил: пишу о морских сражениях и пиратах. И где только нахватался этих историй? Хотя, да, помню, как ты рассказывал мне, что Джеймс несколько раз ходил на судне в море. С ума сойти. Если б Джинни узнала, я был бы уже проклят чем-то ужасным. Насколько я знаю, они с Марией переписываются по обычной магловской электронной почте. Не знаю, как они будут дальше, ведь любая техника перестаёт работать в Хогвартсе. Но не сомневаюсь, уж мой сын что-то придумает…»
«Джинни с кем-то начала встречаться. Слава Мерлину, может, теперь она немного оставит в покое детей. Альбус от её заботы уже не знает, куда деться. Вечно жалуется, что ему не дают и минуты побыть в одиночестве и постоянно донимают самыми разными вопросами. Ты начал заниматься с ним окклюменцией, и мальчик, наконец, стал похож на обыкновенного ребёнка, а не на маленького взрослого. Ушла его напряжённость и нелюдимость. Ему теперь намного легче находиться среди волшебников. Ты варишь ему зелья, выравнивающие магический фон, вы много времени проводите вместе. Я даже слегка ревную: мой сын тебя очень любит…»
«Эффект от твоего сенсационного возвращения в мир живых сравним только с тем, если бы вдруг Волдеморт восстал из могилы. Или Дамблдор. Что, в принципе, почти одно и то же. Гоблины Гринготтса и несколько сотен галеонов творят чудеса. Газетчики двенадцать дней осаждали наш маленький домик на побережье. Кстати, я ещё не сказал тебе, но я всё-таки купил его окончательно. Тебе нравится этот дом, и я вижу, что ты бы не хотел покидать его. Он стал нашим, ведь тут началась наша история. Ты долго отмалчивался, мы столько времени посвятили тому, чтобы составить правдоподобную легенду твоей мнимой смерти и чудесного возвращения. А потом двухчасовая пресс-конференция, которая разорвала волшебный мир: «Возвращение героя войны: почему знаменитый зельевар решил вернуться?», «Министерство магии подтверждает: Северус Снейп жив», «Тайна раскрыта: профессор Снейп выжил после битвы за Хогвартс!», «Где скрывался гений», и заголовок Придиры, бьющий все мыслимые рекорды по абсурдности: «Северус Снейп: новый исследователь среды обитания морщерогих кизляков!».
Когда ты увидел последний, только хмыкнул и выразил свою догадку, что, по мнению Ксенофиллиуса Лавгуда, ты мог так надолго пропасть только для того, чтобы благородно и безвозмездно изучать морщерогих кизляков. Я чуть живот не надорвал от смеха…»
«Я встретился с Марком. Сначала не хотел тебе говорить, но потом рассказал, и ты только кивнул. После продолжительного молчания, ты наконец поведал, что рад этому. К моему облегчению. Ты как будто до сих пор читаешь всё у меня в душе, Северус. Мне было не по себе от того, как я расстался с Марком. Я стал таким счастливым, а его как будто выбросил в утиль, словно ненужную вещь. Не хочу, чтобы так было, и чтобы он так думал. Мы поужинали вдвоём в ресторане, как старые друзья. Марк необычайно лёгкий, понял всё ещё до того, как я сбивчиво начал извиняться. Только сказал, что читал газеты и что безумно рад за меня. От этих его слов мне стало совсем паршиво. А он только рассмеялся.
Когда мы прощались, он сжал мою руку так нежно и отчаянно. Я знаю, что ранил его в самое сердце, что рана эта не затянется ещё очень долго, хотел как-то его утешить, но все слова казались издевательскими. Стоял и просто молчал. Он держал мою руку долго, словно застыв, потом попрощался и ушёл. Мне было так плохо… Я виноват…»
«… Почему ты раньше не рассказал мне о миссис Томпсон? Я послал ей огромный букет ромашек. Такой, что влезет, разве что, в ведро. В ответ получил письмо, в котором она выразила восхищение пополам с недоумением. Моё имя ей незнакомо, и уж конечно, она недоумевает, откуда я знаю, что ромашки — её любимые цветы. Я назвал в ответном письме твоё имя… Короче, мы приглашены на ужин в сочельник. И, похоже, обзавелись престарелой доброй тётушкой, которая будет выносить нам мозг, трепать за щёки и учить жизни по поводу и без. Прости, Северус…»
«Вчера на очередном концерте балетной школы Лили я видел, как ты украдкой вытирал глаза. Тебе всего сорок, а ты уже сентиментален, словно старик. Хотя ты до сих пор склонен считать все свои года, включая те пятнадцать лет твоего ангельского посмертия. Я же их не считаю. Думаю, что у тебя всегда было доброе сердце, просто ты его тщательно скрывал под несколькими слоями чёрных одежд. Малышка в балетной пачке танцевала с особым старанием, подозреваю, потому что ты пообещал прийти на её концерт. После того, как всё закончилось, она не утерпела, слетела со сцены и, пробежав по проходу между стульями, влетела в твои объятия. «Мистер Снейп, тебе понравилось?» — из моих детей только она обращается к тебе на «ты». Ты важно кивнул и пригладил её залитые лаком рыжие волосы. Вокруг растроганно вздыхали мамаши… Джинни перенесла всё это стоически. Даже не очень громко скрипела зубами…»
«Я люблю то, как ты поворачиваешь голову. Да, представляешь? Такая ерунда, а я люблю тебя лишь за это. Глаза твои чёрные, беспросветные, глубокие и затягивающие. Волосы, нефтью разливающиеся по плечам. То как ты двигаешься: плавно и тягуче, словно представитель крупных кошачьих. Гепард? Леопард? Тигр? Как наклоняешься над котлом, как внимательно вчитываешься в собственные записи: ты работаешь над каким-то сложным экспериментальным зельем. Мы оборудовали лабораторию. Это был мой подарок тебе на наше первое Рождество, и ты, хоть сначала и не выказал особого восторга, потом с лихвой компенсировал моё разочарование в спальне…»
«Мне кажется, я любил тебя всегда. Не помню ни дня из собственной жизни, чтобы это чувство не билось в моём сердце. Ты со мной, Северус, везде, где бы я ни был, куда бы ни пошёл. Что бы ни сделал. Что бы ни сказал. Ничто на свете не может убить во мне меня самого. Я смотрю в тебя, как в самую суть моей жизни, и вижу многое. Как тебе нелегко принять новые правила, новые отношения, как ты злишься иногда и плюёшься ядом по привычке. Твои ошибки и промахи. Я вижу также, как ты стараешься, как иногда наступаешь себе на горло и буквально затыкаешь себе рот, чтобы не сказать лишнего. Бьёшь себя по рукам, чтобы не сделать непоправимого.
Глупый. Любимый мой профессор Снейп. Ты ничего не можешь сделать, чтобы оттолкнуть меня. Что бы ты ни совершил, это не сможет причинить мне большей боли, чем те пятнадцать лет, что я прожил в тоске по тебе. И ты знаешь это. Ты сказал мне однажды, что я нахожусь в очень уязвимом положении, потому что люблю тебя больше, и это делает меня слабее. Тот соблазн, который дарит тебе такое моё положение, может совратить на жестокость и пренебрежение. На гордыню. Но я не боюсь. Я вижу, как ты дорожишь мной и тем, что нам уже удалось выстроить вместе. Я всегда, всегда буду тебя любить.
Мой Северус, моя жизнь и смерть. Мои Крылья…»
Гарри пишет мне письма по привычке. Для него это уже что-то вроде дневника. Я прочёл их все и продолжаю читать. Он смеётся, говорит, что я не могу спокойно жить, если не контролирую всё на свете, даже то, что творится в его голове.
Да, я жуткий собственник, ничего не поделаешь. Поттеру придётся смириться.
Переворачиваю последнюю исписанную страницу. Впереди ещё много чистых. Гарри сентиментален и романтичен до неприличия.
А я, кажется, счастлив.


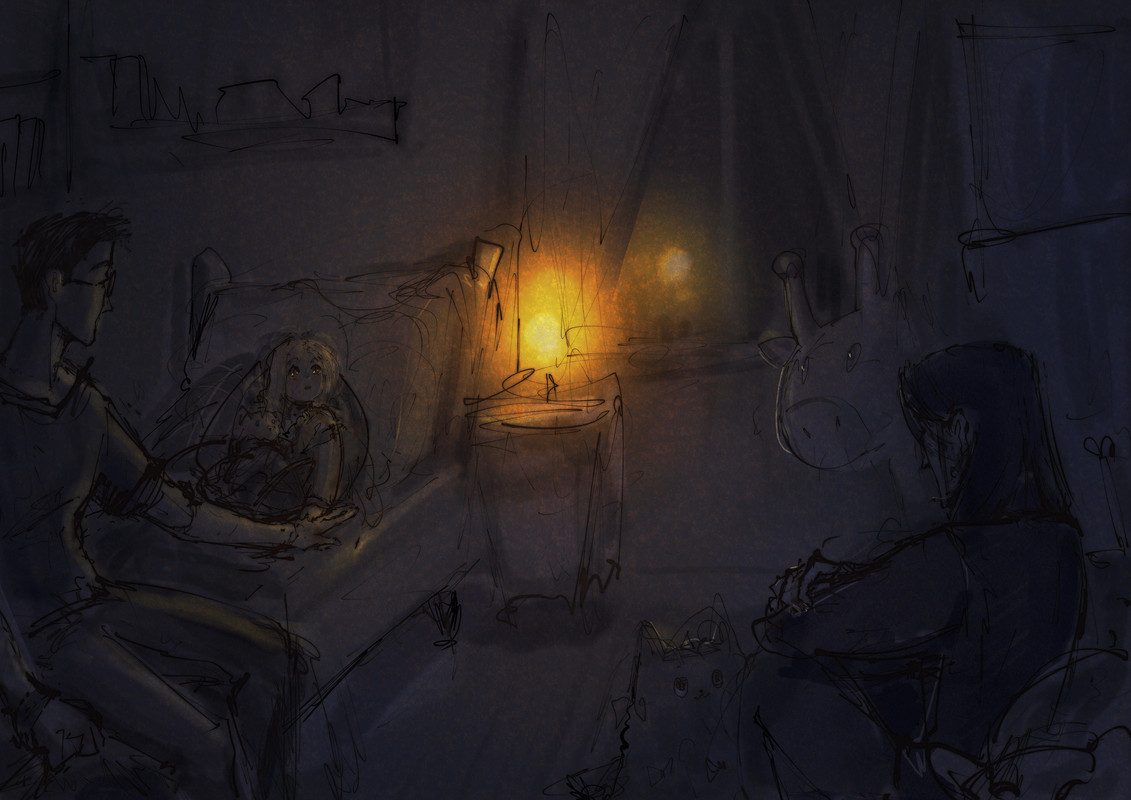

Arast on Chapter 12 Tue 23 Sep 2025 09:20PM UTC
Comment Actions
fandom Snarry 2025 (fandomsnarry) on Chapter 12 Wed 24 Sep 2025 05:28AM UTC
Comment Actions
Lazyotto on Chapter 12 Wed 24 Sep 2025 08:33AM UTC
Comment Actions
fandom Snarry 2025 (fandomsnarry) on Chapter 12 Wed 24 Sep 2025 05:07PM UTC
Comment Actions
Lazyotto on Chapter 12 Wed 24 Sep 2025 05:55PM UTC
Comment Actions
fandom Snarry 2025 (fandomsnarry) on Chapter 12 Wed 24 Sep 2025 07:04PM UTC
Comment Actions
chitaetvse on Chapter 12 Tue 30 Sep 2025 08:08AM UTC
Comment Actions
fandom Snarry 2025 (fandomsnarry) on Chapter 12 Tue 30 Sep 2025 07:27PM UTC
Comment Actions
AndyVolty on Chapter 12 Tue 30 Sep 2025 10:55AM UTC
Comment Actions
fandom Snarry 2025 (fandomsnarry) on Chapter 12 Tue 30 Sep 2025 07:25PM UTC
Comment Actions
Save__Our__Souls on Chapter 12 Sat 04 Oct 2025 06:52AM UTC
Comment Actions
Azora_S on Chapter 12 Sat 04 Oct 2025 07:06PM UTC
Comment Actions
Kopka99 on Chapter 12 Wed 15 Oct 2025 05:51PM UTC
Comment Actions
Azora_S on Chapter 12 Fri 17 Oct 2025 12:41PM UTC
Comment Actions